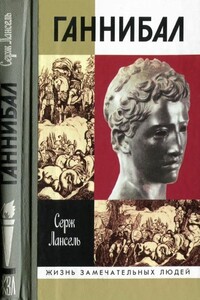– Зинин стучал кулаком по столу: «Знаем, откуда ползет зараза – этот дух „Буревестника“!» Забыл, дьявол, как Добычин накрыл его шинелью в раздевалке…
– На меня директор не кричал, – сказал Виталий и затем довольно точно изобразил, как Еленевский картинно расчесывает руками окладистую бороду снизу вверх и вправо-налево. – «Вот твой отец, – внушал он мне, – хороший человек. Всеми уважаемый. И мы его почитаем. А ты юноша…» – Виталий вдруг осекся.
– Продолжай, хлопче, – подбодрил его Коцюбинский. – Советовал не дружить с Юрием, не ходить в наш дом?..
– Наплевать на все его слова! – порывисто вскочил юноша с приступки и, широко раздувая ноздри, как-то по-взрослому выпалил: – А на что у меня голова на плечах, Михайло Михайлович? Но сегодня этот педель, Зинин, все тюфяки вспорет в интернате…
– Голова на плечах… Это не такая уж плохая штука, – усмехнулся Коцюбинский, неторопливо расстегивая и застегивая тонкими пальцами пуговицы светлого пиджака. – Садись, садись, Виталий. Не горячись, дружище. Вот, дети мои. На нашу долю, долю нашего поколения, выпала очень серьезная эпоха. Но вас ждут еще более интересные времена… времена крепких бурь и великих потрясений…
4. Под знаменем истины и добра
Юрий и Виталий, усевшись на ступеньки крылечка, тесно прильнули друг к другу. Это была не первая задушевная, от сердца к сердцу, беседа, которую вел писатель со старшим сыном и его другом. Затишье, наступившее после революционной бури 1905 года, было непрочным, предгрозовым. Михаил Михайлович с тревогой думал об испытаниях, ожидавших молодежь.
Борьба за дело народа, которая не угасала ни на миг, ждала борцов и вожаков, и их на смену «павшим, в борьбе уставшим» должно было выдвинуть юное, подраставшее поколение. Еще свежи были в памяти людей грозные события 1905 года. Вспышки народного гнева, эти зарницы грядущей грозы, возникали и в самых глухих уголках царской России. Герои Коцюбинского теперь уже не на страницах «Fata morgana», а на суровой арене жизни, вооружившись косами, вилами и топорами, двинулись на штурм дворянских гнезд.
Гимназисты через соучеников-провинциалов узнавали и иное – о разгуле карателей в Конотопе, Клинцах, Шостке, Глухове и в других уголках их крестьянской губернии. Тяжелые события того грозного времени – и восстания угнетенных и жестокая расправа с народом – оставили горький, тяжелый осадок в сердцах юношества. А тут черная сотня из «Руси», «Колокола» и «Киевлянина» подняла шум, что им «нужна Великая Россия, а не великие потрясения», и, оплевывая нарождавшееся братство по духу, взывала хранить и крепить братство по крови.
Опасность, угрожавшую молодежи, ее нравственным принципам, Михаил Михайлович ощущал не только как честный, связанный навеки с народом художник, но и как отец.
Обращаясь к юношам, писатель сказал:
– Царю нужны верные слуги. Но, вопреки воле начальства, гимназии воспитывают и слуг народа. И они, эти слуги народа, обязаны знать более, чем слуги царя. К чему я это говорю? К тому, чтобы напомнить вам, что ваша пора – это пора ученья… Знаем мы о ваших тайных кружках. Знаем, что каждый выучил назубок гневные речи Демосфена и Сен-Жюста. Знаем, что ваши юные сердца, жаждущие подвигов, полны стремления «глаголом жечь сердца людей». Но всему свое время. Придет и для вас святая пора борьбы… Она не за горами…
– Татко! – порывисто вскочил на ноги Юрий. – Тебя жандармы хватали? Сколько тебе было?
– Восемнадцать!
– А нам по пятнадцать! – с гордостью заявил молодой Примаков, хотя ему и оставалось полных два месяца до четырнадцати. Пятнадцать было одному Юрию.
– Три года разницы, – мягко улыбнулся Михаил Михайлович, поеживаясь от вечерней сырости. – А три года теперь кое-что значат. За один год может произойти то, что в иное время не случится и в десять. В одном я уверен, дети мои, вам не придется повторять: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано»…
Слова Коцюбинского оказались пророческими.
Пройдет каких-нибудь семь лет, и один из юношей по воле партии станет командующим советских войск Украины, а другой – строителем и вожаком ее боевой конницы – червонного казачества.