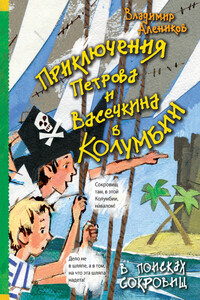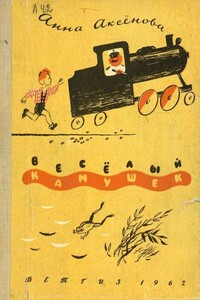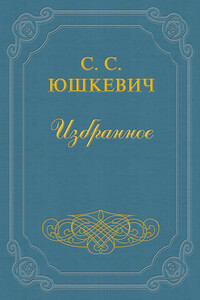Чем выше лезем, тем, чувствую, васечкинская решительность куда-то девается потихоньку. Давай, говорю, Васечкин, лезь, чего застрял? А он говорит: «Я по дороге думаю, важные проблемы решаю!»
Короче, когда мы уже почти до самой крыши долезли, он вдруг вниз глянул и говорит, что, может, и не нужно нам парусным спортом заниматься, можно и на борьбу пойти или там на бокс — это тоже спорт мужественных, а то еще того лучше — зимы дождемся и на хоккей запишемся…
Ну тут я ему и выдал: мол, трус не играет в хоккей… А он как завопит: «Это кто это здесь трус?! Сам к тете Паше идти забоялся, я из-за тебя, можно сказать, на крышу с риском для жизни лезу, и я еще трус!» И так при этом руками размахался, что и в самом деле чуть с лестницы не свалился. Если бы не я, то слетел бы точно, а так только верхом на мне оказался. Одним словом, на крышу я влез с Васечкиным на шее. Как с медалью.
Слез он с меня, и стали мы в слуховое окно протискиваться. Васечкин, тот сразу проскочил, а я, честно скажу, — с трудом; хорошо, думаю, что мы еще сегодня пообедать не успели, а то бы ни за что не протиснуться.
В общем, залезли мы на чердак, а там темно, хоть глаз выколи. Стали мы эту лохань разыскивать. Искали-искали, наверное, всю жизнь проискали, если бы Васечкин на нее в темноте с размаху не налетел.
Я вам скажу, звон по чердаку пошел кошмарный — то ли от лохани, то ли от васечкинской головы — не знаю, только до сих пор в ушах звенит. А тут еще Васечкин как заорет: «Вот она, нашел!» И вправду, висит она на гвозде и вроде бы снять ее раз плюнуть, а только когда глаза у нас уже совсем к темноте привыкли, мы увидели, что лохань к столбу, на котором висела, толстыми цепями прикручена, а цепи-то на замке… Надо же! Вот невезение, думаю, зря мы на этот чертов чердак тащились. Что же теперь-то делать? Вижу, и Васечкин задумался. А чтобы удобнее было думать, он на край этой висящей лохани уселся.
Думал-думал, очень долго думал. Я даже стоять устал и тоже рядом с ним пристроился. И тут гвоздь, на котором эта лохань висела, не выдержал, вылетел, и мы вместе с ней, то есть с лоханью этой проклятущей, па пол рухнули. А сверху на нас еще цепи упали. Полежали мы, полежали и начали от этих цепей освобождаться, как от змей — сыновья Лаокоона, про которого нам Игорь Яковлевич на уроке истории рассказывал.
Сколько это продолжалось, не знаю, только, в конце концов, освободились. И тут видим, что вместе с лоханью мы и замок сорвали, так что ничего ее уже не держит. Очень мы с Васечкиным обрадовались. И поволокли, значит, эту проклятую лохань к слуховому окну.
Как мы ее туда протискивали, как спускали вниз по лестнице — это, как моя бабушка говорит, нужно отдельно рассказывать. Одно скажу: не было такого угла, о который бы мы эту лохань не стукнули. До сих пор в голове звон стоит.
Ну хорошо, с лестницы мы ее с грехом пополам спустили, а дальше-то как нести? Давай, говорю, волоком потащим. Попробовали. Такой шум начался, что изо всех окон соседи повысовывались.
А Васечкин на меня набросился. «Ты чего шумишь, — кричит, — хочешь, чтобы тетя Паша нас застукала?» С ума сошел, говорю, вовсе у меня нет такого желания. «А раз нет, говорит, тогда давай ее по-другому нести». Как это по-другому? — спрашиваю. «Да так, говорит, на головах понесем, это, говорит, даже полезно, в Африке все на головах носят, поэтому у них и осанка стройная, а ты, Петров, все время сутулишься». Ладно, ладно, говорю, ты на себя посмотри.
Короче, залезли мы под эту чертову лохань и понесли. Не знаю, как насчет осанки, в смысле помогает ли тут ношение лоханей на голове, но только при таком способе переноса совсем ничего не видно, разве только то, что под ногами. А сзади еще и Васечкин напирает, прет себе и прет, даже под ноги не смотрит, на меня надеется. Почему-то у нас всегда так — он придумывает, а я отдуваюсь.
Одним словом, когда мы шли, только и слышно было: «Бум! Бах! Дзынь! Ой-ей-ей!» Пока мы эту громыхающую лохань до нашего парадного донесли, я уже к этим столкновениям настолько привык, что, когда мы поднимались по лестнице и опять во что-то «резались, я уже ничуть не удивился.