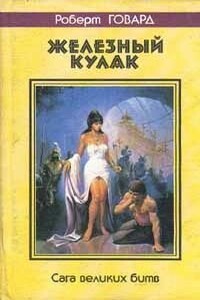Макиэн глядел на темную дорогу, по которой с трудом пробирался последний посетитель кабака.
— То, что вы сказали, довольно верно, — отвечал он, — но не совсем. Конечно, мы знали разницу между нами и вождем клана, но она была совсем другой, чем разница между человеком и Богом или между зверем и человеком. Скорее она походила на разницу между двумя видами зверей. Однако...
— Что вы замолчали? — спросил Тернбул. — Говорите! Кого вы ждете?
— Того, кто нас рассудит, — отвечал Макиэн.
— А, Господа Бога! — устало сказал Тернбул.
— Нет, — покачал головою Макиэн, — вот его.
И он показал пальцем на последнего посетителя, которого заносило то туда, то сюда.
— Его? — переспросил Тернбул.
— Именно его, — сказал Макиэн. — Того, кто встает на заре и пашет землю. Того, кто, вернувшись с работы, пьет эль и поет песню. Все философские и политические системы намного моложе, чем он. Все храмы, даже наша Церковь, пришли на землю позже, чем он. Ему и подобает судить нас.
Тернбул усмехнулся.
— Этот пьяный неуч... — начал он.
— Да! — яростно заорал Макиэн. — Оба мы знаем много длинных слов. Для меня человек — образ Божий, для вас — гражданин, имеющий всякие права. Так вот он, Божий образ; вот он, свободный гражданин. Первый встречный и есть ч е л о в е к. Спросим же его.
И он гигантскими шагами двинулся в гущу сумерек, а Тернбул, добродушно бранясь, пошел за ним.
Поймать образец человека было не так легко, ибо, как мы уже говорили, его заносило туда и сюда. Отметим кстати, что он пел о короле Уильяме (неизвестно, каком именно), который жил в самом Лондоне, хотя в остальном текст был полон чисто местных географических названий. Когда оба шотландца пересекли его извилистый путь, они увидели, что он скорее стар, чем молод, что волосы у него пегие, нос красный, глаза — синие, а лицо, как у многих крестьян, словно бы составлено из каких-то очень заметных, но совершенно разных предметов. Скажем, нос его торчал, как локоть, а глаза сверкали, как лампы.
Приветствовав их с пьяной учтивостью, он остановился, а Макиэн, сгоравший от нетерпения, сразу начал беседу; он старался употреблять только понятные и конкретные слова, но слушатель его, по-видимому, больше тяготел к словам книжным, ибо схватился за первое же из них.
— Атеисты! — повторил он, и голос его был преисполнен презрения. — Атеисты! Знаем мы их! Да. Вы мне про них не говорите! Еще чего, атеисты!..
Причины его презрения были не совсем ясны; однако Макиэн торжествующе воскликнул:
— Ну, вот! Вы тоже считаете, что человек должен верить в Бога, ходить в церковь...
При этом слове образец указал на колокольню.
— Вот она! — не без труда выговорил он. — При старом помещике ее было снесли, а потом опять...
— Я имею в виду религию, — сказал Макиэн, — священников...
— Вы мне про них не говорите! — оживился крестьянин. — Знаем мы их! Да. Чего им тут надо, э? Чего, а?
— Им нужны вы, — сказал Макиэн.
— Именно, — сказал Тернбул, — и вы, и я. Но мы им не достанемся! Макиэн, признайте свое поражение. Разрешите мне попытаться. Вам, мой друг, нужны права. Не церкви, не священники, а право голоса, свобода слова, то есть право говорить то, что вы хотите и...
— А я что ж, не говорю, что хочу? — возразил с непонятной злобой пьяный крестьянин. — Нет уж! Я что хочу, то и скажу! Я — человек, ясно? Не нужны мне ваши, эти, голоса и священники. Человек он человек и есть. А кто ж он еще? Человек! Как увижу, так и скажу: вот он, человек-то!
— Да, — поддержал его Тернбул, — свободный гражданин.
— Сказано, человек! — повторил крестьянин, грозно стуча палкой по земле. — Не гра... ик... ну, это... а че-ло-век!
— Правильно, — сказал Макиэн, — вы знаете то, чего не знает теперь никто в мире. Доброй вам ночи!
Крестьянин снова запел и растворился во мраке.
— Странный тип, — заметил Тернбул. — Ничего не понял. Заладил свое: человек, человек.
— А кто сказал больше? — спросил Макиэн. — Кто знает больше этого?
— Уж не становитесь ли вы агностиком? — спросил Тернбул.
— Да поймите вы! — крикнул Макиэн. — Все христиане агностики. Мы только и знаем, что человек — это человек. А ваши Золя и ваши Бернарды Шоу даже в этом ему отказывают.