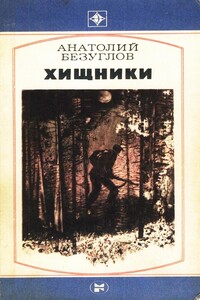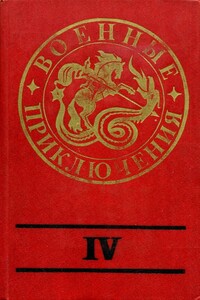Лисовский было выскочил наружу. Здесь хорошо слышались удары ломов и треск осыпающегося льда. Ветер гнал с этими звуками и лохматые стрелы снега. Они вонзались в стекло прожектора над рулевой рубкой, казалось, вот-вот прошьют его, проколют палубу и все надстройки.
В салон он вернулся, вздрагивая от холода, по-ямщицки хлопая себя по бокам.
— Ох и метет, скажу я вам! — Подбородок у него дрожал, зубы клацали. — Пойдем или потом?
Они были в плену какого-то удивительного душевного оцепенения. Мертвящее спокойствие — в противоположность тому страху, который им пришлось пережить во время сжатия льдов. Катастрофа их минула, и теперь они стремились лишь к одному — к прежней безмятежности. А ее и не было. Они же всеми силами делали вид, что есть. И цеплялись за малейшую возможность, чтобы доказать себе: капитан вновь занимается не тем, что нужно.
И не было человека, который бы сломал их душевную глухоту, заставил чуточку проявиться их воле и разуму, выйти из теплого салона. Их захватило упрямое приятное отупление. Как бывает, если засмотришься на кого-то или что-то и не в силах глаз отвести.
Лисовскому не ответили.
* * *
С одной стороны — высокая, овальная корма парохода, с другой — горы льда, сверху — небо, уходящее в синюю бездну. И со всех сторон, как кипяток, холод.
Нелегко на морозе кочегарам, отстоявшим вахту у раскаленной топки. И все же работали азартно, особенно первые часы.
Захаров искал ритм, тот ритм, который выработался у кочегаров, когда можно бросать в огонь уголь, лопату за лопатой, а думать о чем угодно. Так и здесь ему был нужен ритм. Но найти его оказалось не просто. Морозный ветер хватал за нос, щеки, губы. За лихой соленой шуткой кочегары вначале прятали утомление, но вскоре утих смех, все вытеснила тягучая, ломающая плечи усталость.
Да что кочегары? Они к тяжелому труду привычны. А вот стюарды, телеграфисты, электрики, пассажиры — те сразу выдохлись.
Люди копошились на самом дне ночи. Кроме ветра и холода, их давил страх. Когда лед припорошен снегом и не видно, что под ним, не так боязно. Там же, где снег смело ветром, где обнажилась стекольная хрупкость льда, через которую просвечивает водяная чернота, ноги слабеют и отказываются подчиняться. Кажется, подошвы вот-вот прорвут, проломят прозрачную пленочку, и рухнешь в пучину. Люди увядали, у них дрябли мышцы, их окатывало липким потом.
Ян Сторжевский первым уронил лом. В обогревалке упал на скамейку, пальто с бобриковым воротником расстегнул, никак не отдышится.
Доктор, принимавший у Аннушки роды, высокий, грузный, в толстой шубе, вместе со всеми колол лед, тяжело, со свистом дыша и потея. А тут занялся Сторжевским, чтобы тот не отдал богу душу от переутомления. Раскрыл саквояж с медицинскими припасами, извлек бутылочки, покапал на ватку, распространяя на все помещение острый сосновый запах.
Постепенно все пассажиры оказались в обогревалке. Женщина в прямоугольной оленьей шапке-поморке, замотанная в платки, словно в кокон, не переставая стонала: «Ох-ох, что такое деется? Ой, сердце… Ой, помираю… Конец мне».
Обогревалка превратилась не то в лазарет, не то в комнату отдыха. Воздух в ней сизый от духоты. Свет электрической лампочки еле пробивается. Но ни иллюминатор, ни дверь не открывают, боясь холода. Он и так сочится через какие-то щели и ползет понизу, изморозью обметав дверь.
Откуда эти пассажиры на пароходе? Как им удалось уйти в рейс, который архангельские власти держали в секрете? Разные у них пути. И ни об одном не скажешь в открытую.
Впрочем, врачу нечего скрывать. Он мурманчанин, приехал в Архангельск несколько месяцев назад за медикаментами, а тут красные начали наступление, перерезали железную дорогу. Одна надежда — на пароход. Только никому не было дела до врача с его заботами. Почти каждый день он мыкался в коридорах гражданского департамента Северного правительства, умоляя дать ему место на любом судне, идущем в Мурманск. Но тщетно.
А потом необыкновенное везение. Судьба столкнула его с Рекстиным. Капитан задал лишь два вопроса:
— Вы хороший доктор? Рожать можете помочь одной женщине?