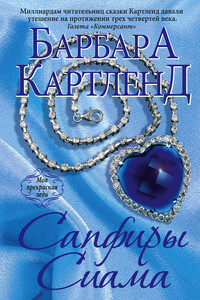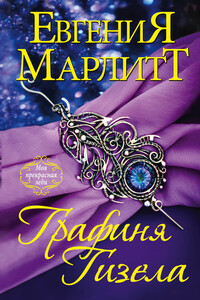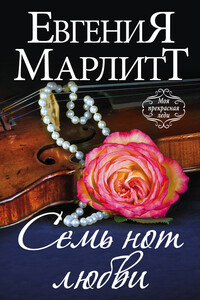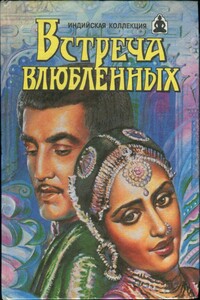– Клодина, взгляни, – вскрикнула она, – что это за господа? Они подъезжают сюда!
Клодина вдруг откинулась на спинку скамейки, как будто ей стало дурно, и чуть ли не с ужасом смотрела на остановившиеся экипажи; по средней дорожке бежал Гейнеман, снимая на ходу фартук и застегивая старую ливрею. Окна в комнате фрейлейн Линденмейер зазвенели, а Беата собралась бежать, но остановилась, взглянув на Клодину.
– Что с тобой? – прошептала она и взяла девушку за руку. – Пойдем, надо их встретить, или тебе дурно?
Но девушка уже овладела собой. Она поспешно сошла вниз и уверенно направилась к садовой калитке; казалось, что она шла по блестящему паркету на придворном балу и что на ней было не простое летнее платье с черным фартуком, а пышный придворный туалет из голубого бархата, в котором она недавно очаровала всех присутствующих. Беата следила за ней с изумлением. Как грациозно склонилась ее прелестная фигура, как скромно наклонила она красивую головку, которую поцеловала герцогиня.
Беата перегнулась через перила, чтобы рассмотреть остальных. Боже, рядом с герцогом стоял ее брат, и все они направлялись к дому. Клодина вела герцогиню под руку.
Фрейлейн Линденмейер совершенно растерялась. Она стояла перед зеркалом и надевала чепец с красными лентами, казавшийся столь же жалким, как и его владелица, которая никак не могла приколоть его трясущимися руками. Старая дева имела очень смешной вид: она уже надела черный лиф, но забыла юбку, оставшуюся висеть перед широко открытой дверью. Старушка дрожала, как осиновый лист.
– Линденмейер, не торопитесь! – воскликнула, заглядывая в комнату, развеселившаяся Беата. – Скажите мне лучше: где спрятаны бабушкины хрустальные тарелки и где у Клодины серебряные ложки? А потом садитесь у окна в кресло, для этого ваш туалет достаточно красив, и вы сможете смотреть на гостей, когда они будут гулять по саду.
Но старушка, растерявшись, объявила, что она не в силах ничего сообразить, даже если бы от этого зависела ее жизнь… Беата со смехом затворила дверь и пошла наверх к мечтателю. Он, конечно, и не подозревал о чести, которой удостоился его дом, и был, как всегда, погружен в свою работу. Беата покачала головой и робко остановилась перед темной старой дверью башни. Легкая краска покрыла ее лицо, когда она, услыхав «войдите», отворила дверь, и строгие крупные черты ее лица вдруг приняли прелестное женственное выражение.
– Иоахим, у вас гости, – сказала она, – наденьте ваше лучшее платье и идите вниз. Приехали герцог с герцогиней.
Она засмеялась, когда он поднял голову и удивленно и рассерженно посмотрел на нее, – это был все тот же звонкий приятный смех.
– Да поторопитесь же! Их высочество заметит отсутствие хозяина. Я сейчас принесу им что-нибудь выпить.
Он невольно схватился за голову. Этого только недоставало в Совином доме! Высочайшее посещение! Чего они хотят от разорившегося? Ах, Клодина!.. Они снова хотят отнять Клодину?
Он вышел с мрачным лицом. Беата еще минуту постояла в комнате, робко оглядываясь, как дитя, впервые вошедшее в какой-нибудь храм. Потом на цыпочках подошла к столу и с бьющимся сердцем и горящими щеками заглянула в открытую тетрадь, на которой лежало перо. Мелкие тонкие буквы еще не высохли, на открытой странице стояло заглавие: «Несколько мыслей о смехе». Она удивленно покачала головой, перевела глаза с рукописи на открытый шкаф, и на губах ее снова появилась улыбка, но выражавшая не насмешку, а внутреннее удовлетворение. Улыбаясь, Беата вышла в столовую, поставила на поднос свежую землянику и мелкий сахар и в сопровождении Гейнемана, имевшего довольно странный вид в старой, давно не надеванной ливрее Герольдов, прошла на площадку как раз в ту минуту, когда герцогиня поднималась, чтобы посмотреть находку, от которой осталось уже очень мало…
Беата Герольд фон Нейгауз была уже представлена высокопоставленным особам; во время свадьбы брата с принцессой из герцогского дома она прожила в столице четыре полных мучений дня, делала и принимала визиты, обедала у принцессы Теклы и выдержала раут во дворце. Она надевала тогда голубой шелк и кремовый атлас и чувствовала себя очень несчастной, потому что лиф сидел на ней «как приколоченный», – портниха не хотела сделать иначе. Когда она вернулась в свой Нейгауз, то с наслаждением надела свое старое шерстяное платье и поклялась скорее бить камни, чем жить при дворе. Вспоминая эти дни, она поклонилась без особого благоговения, и лицо ее приняло выражение, которое Иоахим называл «варварским».