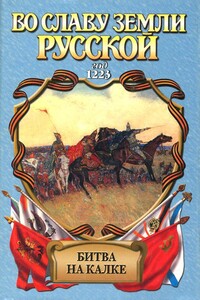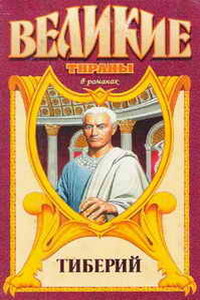Лето уже кончается, а подвоза хлебного в город нету. Как поднялись тогда люди на Мирошкиничей да их прихлебателей, князь Ярослав испугался даже, вмешиваться в смуту не стал, отсиделся на городище. А потом разгневался, оставил вместо себя старика немощного Хотея Григоровича, будто в насмешку, а сам со своими дворянами и дружиной из Новгорода ушел в Торжок. И говорят, будто бы на прощанье сказал, что теперь Торжок будет Новгородом, а Новгород — Торжком. Дальше — известно что. Все торговые пути в новгородскую землю идут через Новый Торг, мимо не пройдешь, а где пройти можно, там князь Ярослав засеки сделал, войско поставил. Заступил все пути! Захотел наказать непослушных граждан новгородских. А мороз, что все всходы побил, князю Ярославу на руку: скорее пощады запросят, приползут, поклонятся.
Уж посылали к нему послов — каяться, умолять, чтобы не, дал умереть злой смертью. Несколько раз посольства ездили в Торжок, да оттуда не возвращались. Как не возвращались и купцы, на свой страх решившиеся поехать в низовские земли за хлебом. Всех князь Ярослав брал, заковывал, отправлял пленниками по своим вотчинам. Неужели и вправду хочет, чтобы никого в Новгороде не осталось? Люди так и думают. Кто помрет, кто разбежится — приходи тогда опять да хоть всю нижнюю землю с собой приводи: селитесь, места много! Не князь, а кара Господня неизвестно за какие грехи.
Мучная жижа в плошке наконец остыла. Пелагея осторожно понесла ее сыночку, поставила на край столешницы и принялась Олексу распеленывать.
Да неловко повернулась — или голова закружилась, или что — и толкнула стол! Замерла, боясь оглянуться и посмотреть, что там — опрокинулось или нет. А ну как пролила? Медленно повернула голову, глянула. Слава Тебе, Господи! Чуть и выплеснулось из плошки на стол. Поест, значит, сыночек! На выскобленной до желтизны доске столешницы пролитая лужица мучного варева выглядела грязным пятном. Пелагея скорей припала к ней губами, всосала в себя, немного там и было, что всасывать, и, не в силах оторваться, еще сколько-то полизала сырую доску. Когда убедилась, что от лужицы на столе уже ничего не осталось, принялась кормить Олексу.
Он ел молча, вдумчиво. Не шмякал губами, как делал, когда у Пелагеи еще было молоко, а расчетливо принимал ложку ртом, всякий раз словно подготавливая лицо для такого важного дела. И глаза закрывал, глотая. Какой сынок мог вырасти у них с Никитой, думала Пелагея. Она почти была уверена в том, что ни она, ни Олекса не дождутся прихода Никиты — умрут. Скоро зима. Уходить куда-то у нее уже нет сил, да если бы и нашлись — сколько нынче бродит по дорогам таких вот, как она, голодных и никому не нужных. Странно — она была убеждена и в том, что Никита скоро придет, накормит их с Олексой и защитит. Две веры в ней жили и боролись друг с дружкой — то одна побеждала, то другая. Умирать было то страшно, то скучно, а жить — то просто никакой возможности, а то ничего, терпимо.
От Никиты, как он ушел в поход с князем Мстиславом, не приходило никакой весточки. Наверно, он воевал себе где-то, не беспокоясь о своих родных. Чего о них беспокоиться? Не знал, конечно, что здесь с ними случилось. А Пелагея куда могла ему весточку послать и с кем? Это раньше торговые обозы из Новгорода во все края ходили, а теперь вся торговля умерла. Хочешь куда-нибудь весть отправить — сам садись на коня и поезжай. А кони нынче имеются только у Ярославовых людей. Те и сами едят досыта, и овса коням напасли. Кони у них добрые, накормленные, лоснятся.
Пелагея уже столько раз запрещала себе думать о том, что у Ярославовых людей на детинце есть еда. Стоит начать об этом размышлять да представлять себе — и ноги сами туда просятся: пойти, попросить, посидеть возле ворот детинца с закутанным Олексой на руках. Подождать, пока чье-нибудь сердце не тронется жалостью и им с сыночком не швырнут кусок. Она запрещала себе о таком мечтать, потому что знала — ничье сердце там не разжалобишь. Только стыда наберешься, когда тебя вместе с другими побирающимися погонят от ворот детинца, как собак, кнутами и свистом. Раза два она уже такое испытала.