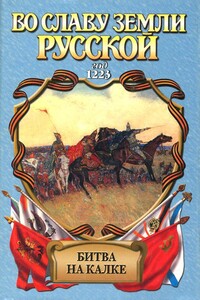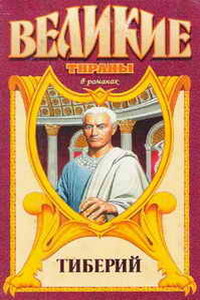Но время шло, а отряд Удалого не возвращался. Уже отбили не меньше десятка приступов, уже татарскими телами завалено было все подножие холма, а от крови поганых покраснела вода в Калке — а в степи, там, куда ушел утром Мстислав Мстиславич, не было видно ни одного человека. Солнце стало клониться к закату. Мстислав Романович начал понимать, что Удалой не придет. Они остались одни против огромного вражеского полчища.
Теперь и все его люди это понимали. Но продолжали сражаться, глядя на Мстислава Романовича — он бросался туда, где, на его взгляд, было всего труднее и где татары налезали гуще. Мечом рубил как молодой, подавая пример всем остальным. Не уступали в боевом рвении ему и молодые князья Андрей и Александр. Им обоим еще не приходилось участвовать в сражениях, это было первое — и такое несчастное! И может быть, мстя врагу за то, что первая битва будет для них и последней, они быстро побороли юношеский страх и, мало заботясь о сохранении жизни, дрались яростно и самозабвенно.
Татары наконец уяснили, что лобовые приступы им ничего не дадут, кроме еще одной кучи трупов. Они принялись обстреливать холм. Но Мстислав Романович, когда устанавливался здесь, велел втащить наверх и свой обоз. За телегами, составленными в ряды, воины русские были неуязвимы для стрел. Постреляв какое-то время, татары бросили всякие попытки сбить Мстислава Романовича с холма и даже отъехали в сторону — совещаться. Потом стали устраиваться на ночлег — наступил вечер, и, видимо, им тоже, утомленным за день, требовался отдых.
Ночи здесь, в половецких степях, в это время года были гораздо темнее, чем в Киеве или Смоленске. Можно было не сразу увидеть подползающих татар. Правда, и татарам было так же темно, как и русским, и они могли не отважиться лезть на холм ночью. Все же Мстислав Романович назначил своих людей в усиленную охрану, которая должна была постоянно сменяться и не спать. Пока не забрезжила полоска рассвета, воины вглядывались в темноту до боли в глазах. Ночного приступа не случилось.
Случилось другое. Новый день начался вроде бы, как и ожидалось, с очередных татарских наскоков и града стрел. Но Мстислав Романович стоял твердо, как и вчера, и попытки прекратились. До полудня ничего не происходило, и киевский полк, обложенный со всех сторон, мог только наблюдать, как победители грабят разоренный стан большого войска, которого не было больше в живых.
После полудня к холму, к самым укреплениям, подъехал одинокий всадник. Махал руками, показывая, что оружия при нем нет и прибыл он для переговоров. Это был не татарин.
Мстислав Романович узнал его сразу: Плоскиня, тот самый татарский друг, предводитель вольных степных людей, или, проще говоря — сволочи.
И еще раз Мстислав Романович вспомнил Удалого, который не позволил убить тогда второе татарское посольство. Почему-то Мстиславу Романовичу казалось, что именно он зарубил бы тогда этого Плоскиню — и рука бы не дрогнула. Он и в тот раз вел себя нагло, и сейчас стоял такой весь приветливый, что так и хотелось рубануть мечом по гладкой роже. Впрочем, любопытно, зачем он пришел. И жить, жить все-таки хочется! Мстислав Романович чувствовал эту жажду жизни, даже зная, что спасаться не станет — честь не позволит.
Плоскиня все махал руками, звал. Мстислав Романович велел своим людям провести татарского друга через дебрь и представить для допроса. Несколько дружинников кинулись — и привели.
— Говори, зачем пришел! — Мстиславу Романовичу не хотелось даже и тени страха за свою жизнь показывать этому перебежчику.
— А, ты, князь, узнал меня? — обрадовался Плоскиня. — И я тебя помню. Вот — снова к тебе пришел, с поручением.
— Гад ты ползучий! — гневно сказал Мстислав Романович. — Погляди, сколько бед нам татары наделали! А ты, русский, им служишь! Платят тебе, что ли?
— Ой-ой, — сразу огорчился Плоскиня. — Правильно, князь, говоришь. Такое горе, такое горе, что и сказать нельзя. — И, тут же забыв о горе, продолжил: — А я что вам говорил? С ними надо в дружбе жить, с татарами-то Вы же так их рассердили! Уж так рассердили!
— Это что! — надменно проговорил Мстислав Романович. — Мы их не так еще рассердим, погоди! А ты чего пришел? — спросил он, стараясь, чтобы вопрос прозвучал не слишком вопросительно, чтобы Плоскиня не догадался, как может хотеться человеку жить, даже когда он обязан умереть.