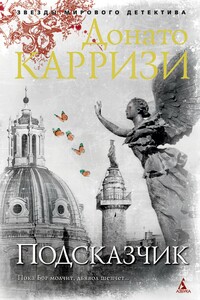Еще в коробке среди снимков лежало письмо Санта-Клаусу, написанное синим карандашом. Буквы плясали по листку вкривь и вкось. Он просил велосипед или щенка и обещал, что будет хорошим мальчиком. Ниже он подписал свое имя и возраст. Четыре года.
Не знаю почему, но, когда я увидела письмо, у меня внутри что-то оборвалось. Безграничное горе охватило все мое существо. До сих пор я была более-менее спокойной – не благостной, конечно, и не смирившейся, но спокойной. А тут в один миг моя напускная сдержанность словно испарилась. Я вдруг стала совершенно беззащитной.
– Прости, прости меня, – сказала я, протягивая Бену пачку фотографий. – Я не могу. Сейчас не могу.
Он обнял меня. Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота, но подавила приступ. Он сказал, что все будет хорошо, что он всегда будет рядом и никогда меня не покинет. Я прижалась к нему, так мы и сидели, слегка покачиваясь. Я чувствовала какое-то отупение, будто находилась за тысячи миль отсюда. Я словно издали наблюдала, как Бен принес мне стакан воды и положил фотографии в коробку. Я всхлипывала. Видела, что он тоже расстроен, однако в выражении его лица я угадывала нечто иное. То ли апатию, то ли смирение, но точно не потрясение.
С содроганием я осознала, что он все это уже проходил. Горе стало для него привычкой. Он с ним сжился, сросся, оно превратилось для Бена из внешней угрозы в основу мироощущения.
Лишь для меня это как удар грома. Каждый день.
Я извинилась и отправилась наверх, прямиком в спальню. К дневнику в коробке. Надо все записать.
Эти священные моменты. Сидя на коленях у шкафа или лежа на кровати, я пишу в какой-то лихорадке. Слова льются из меня сплошным потоком, сами по себе. Заполняя страницу за страницей. Я опять здесь, в спальне, Бен думает, что я легла спать. Я просто не могу остановиться. Хочу записать все-все.
Наверное, подобное чувство я испытывала, когда писала роман. Или все приходило медленнее, в размышлениях? Ох, только бы вспомнить.
Потом я спустилась, налила нам чая с молоком. Размешивая чай, думала, что, наверное, сотни раз готовила еду для Адама, делала овощное пюре, соки… Я принесла чай в гостиную.
– Я была хорошей матерью? – спросила я Бена, подавая ему чашку.
– Кристин…
– Мне нужно знать, – перебила я. – Как я справлялась с малышом? Он ведь был совсем маленький, когда…
– …произошел несчастный случай? Ему было два года. И ты была прекрасной матерью. До этого. А потом… – Он замолчал, не закончив предложения, и отвернулся.
Хотела бы я знать, что он от меня скрывает, какую тайну предпочитает не выдавать.
Я знала достаточно, чтобы заполнить кое-какие пробелы; даже если не помнила что-то наверняка, могла дофантазировать. Я представила, как мне каждое утро напоминают, что я жена и мать, что сегодня меня навестят мой муж и сын. Вот я здороваюсь с ними каждый день как с незнакомцами, немного холодно, а возможно, обескураженно. Представляю, как сильно мы страдали. Каждый по-своему.
– Ничего. Я понимаю.
– Ты тогда была в тяжелом состоянии. Слишком тяжелом, чтобы я мог ухаживать за тобой сам, дома. Тебя нельзя было оставить одну даже на минуту. Ты могла отправиться куда глаза глядят. Я боялся, что ты решишь принять ванну и оставишь кран открытым. Или начнешь что-нибудь готовить, а через какое-то время забудешь. Для меня это было слишком трудно. Так что я остался дома, чтобы заниматься Адамом. Очень помогала моя мама. Но, родная, мы навещали тебя каждый вечер… – (Я молча взяла его за руку.) – Прости… Мне до сих пор мучительно вспоминать то время.
– Знаю, знаю, – сказала я. – А что моя мать? Она нам помогала? Ей нравилось быть бабушкой? – (Бен кивнул и собирался что-то сказать.) – Она ведь умерла, так?
– Да, милая, несколько лет назад.
Значит, я была права. Я почувствовала, как мой мозг отказывается реагировать, будучи не в силах переварить новое горе, еще один призрак моего туманного прошлого, но я знала, что завтра проснусь и не буду ничего этого помнить.
Что мне такого написать в дневнике, что вдохновляло бы меня завтра, послезавтра, день за днем?
Вдруг передо мной возник образ. Рыжеволосая женщина. Адам пошел в армию. Вспышкой явилось имя.