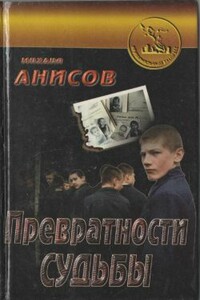– Мы с ним пять лет вместе, – захныкал Сидорыч. – Я без него… – Но встретившись с остекленевшим взором убийцы, он осекся и замолчал.
– Пять лет говоришь? – Убийство человека для Тараса Поликарповича становилось привычным делом. Его не мучила совесть и он не жалел о случившимся, а думал лишь о том, как замести следы. Оставлять в живых свидетеля он считал излишним риском. Мирошниченко еще раз склонился над Федей, выдернул из его ботинка шнурок и пару раз дернул, проверяя на прочность.
– Что ты надумал? – Сидорыч испугался за собственную жизнь и попятился вглубь вагона, пока не уперся в стену. – Не убивай меня, пожалуйста, я никому не расскажу. – В глазах у него помутнело.
– Ну ты даешь, батя! О чем подумал? – Тарас Поликарпович старался успокоить очередную жертву, но на лице его застыла страшная маска. Приблизившись к бомжу вплотную, он резким движением закинул шнурок и затянул его вокруг шеи несчастного.
У них была существенная разница как в весе, так и в возрасте. Поэтому Сидорыч не сопротивлялся, он лишь пытался засунуть пальцы между удавкой и шеей, чтобы оттянуть шнурок, но только разодрал кожу. Наконец глаза у него закатились, высунулся язык и повисли плетьми руки. Мирошниченко еще какое-то время удерживал жертву в вертикальном положении, но потом выдернул шнурок и Сидорыч, словно пустой мешок, рухнул на пол.
Убийца прекрасно понимал, что больше ему здесь оставаться нельзя. Он расплескал керосин из керосиновой лампы по всему вагону и достал из кармана спички, но натолкнулся взглядом на злополучную газету, из-за которой разыгралась трагедия. Он поднял ее, отряхнул и дочитал стихи:
Но на мне свет клином не сошелся.
Незаменимых нет!
Смерч по земле прошелся,
Борозды оставив след.
И пусть сегодня днем
Все покроется огнем,
Сгорит земля до тла —
Не причиню я людям больше зла!
– Нет! – произнес он вслух. – Это уже ко мне не относится, поздновато раскаиваться. – И он, чиркнув спичкой, поджег газету. Пронаблюдал, как мелкие языки пламени пожирают строки стихов и даже получил какое-то удовлетворение. Когда зажгло пальцы, он выронил газету и произнес две понравившиеся строки, из двух последних четверостиший:
И пусть сегодня днем
Все покроется огнем.
Ему казалось, что пожар вызван только одним его желанием. Мирошниченко вспомнил давний совет еще живого Сидорыча, извлек из внутреннего кармана справку об освобождении и бросил ее в огонь. Далее оставаться в вагоне было опасно, да и не имело смысла.
Тарас Поликарпович влез в пустой вагон товарняка и забился в угол. Там без воды и пищи он просидел несколько суток, даже позы редко менял, пока не услышал голоса рабочих, разъединяющих вагоны.
– Тут какой-то бомж затесался, – крикнул один из них, обнаружив Мирошниченко.
– Гони его, – посоветовал другой.
– Ты что, не слышал? – прикрикнул рабочий на бомжа. – А ну пошел отсюда, пока по шее не получил!
Тарас Поликарпович вылез и зажмурился от яркого дневного света, ноги затекли и он не мог двинуться с места.
– Уйди с дороги, – оттолкнул его бригадир рабочих и Мирошниченко упал на бок.
За последние несколько месяцев он уже привык к подобному обращению, поэтому его самолюбие задето не было. Он поднялся и, прихрамывая, отошел от рабочих на безопасное расстояние. Только теперь протер глаза и осмотрелся. Множество железнодорожных путей говорило о том, что он попал в крупный город. Найти дорогу к железнодорожному вокзалу особого труда не составляло.
– Саратов, – прочитал губами Тарас Поликарпович на здании вокзала. Здесь он пробичевал много лет.
Все местные бомжи знали его, но ни с кем из них близко он не сходился. Ночевать Мирошниченко приноровился в близлежащей газовой котельной. Он устроил себе постель в углу, среди труб, использовав для этого картон от коробок. Приходил в котельную он поздно ночью и работникам своим присутствием не досаждал, а те, из жалости, не гнали его.
Бомжей в стране становилось все больше и больше, и государство практически махнуло на них рукой. Теперь других забот хватало: ликвидация застойных и перестроечных времен. Великая страна стояла на грани развала, тут уже не до бомжей. Тарас Поликарпович за эти годы основательно похудел, теперь в нем вряд ли оставалось и шестьдесят килограммов. Он искал только, где выпить, пища же его абсолютно не интересовала. Без еды он мог просуществовать неделю и даже не вспомнить о ней, без водки же мог прожить лишь несколько часов.