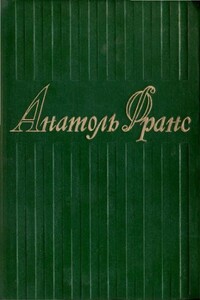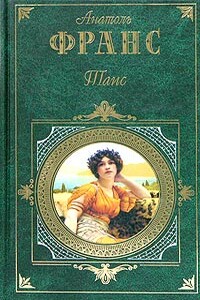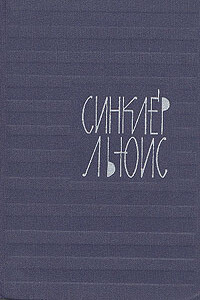Гражданин Блез, превосходный наездник, ехал верхом и, не желая глотать пыль, поднятую берлином, скакал впереди.
По мере того как берлин катил по мостовой предместья, путники забывали о своих заботах; при виде полей, деревьев, неба мысли их становились радостными и приятными. Элоди думала, что могла бы прожить всю жизнь с Эваристом на лоне природы, на берегу реки, близ лесной опушки; она разводила бы кур, а он был бы мировым судьею где-нибудь в деревне. Придорожные вязы убегали от них. При въезде в селения наперерез экипажу с лаем устремлялись дворняжки, кидаясь под ноги лошадям, меж тем как рослый спаниель, разлегшийся поперек дороги, с сожалением подымался с места; куры разлетались во всех направлениях и, спасаясь, перебегали дорогу; гуси, сбившись в кучу, удалялись неспешно. Чумазые дети глазели на берлин. Утро выдалось жаркое, на небе — ни облака. Потрескавшаяся почва жаждала дождя. Они вышли из экипажа у Вильжюифа. Когда они проходили через селенье, Демаи зашел к фруктовщице купить вишен, чтобы угостить гражданок, которым хотелось пить. Торговка оказалась смазливой; Демаи пропал надолго. Филипп Дюбуа окликнул его по прозвищу:
— Эй! Барбару!.. Барбару!
Этим прозвищем его обычно звали приятели.
Услыхав ненавистное имя, прохожие насторожились; во всех окнах появились лица. Когда же санкюлоты увидели выходящего от фруктовщицы красивого молодого человека, в распахнутом жилете, с развевающимся на атлетической груди жабо, с корзиной вишен на плече и с фраком на кончике трости, они приняли художника за объявленного вне закона жирондиста, бесцеремонно схватили его и, не обращая внимания на его негодующие протесты, наверное отвели бы в мэрию, если бы старик Бротто, Гамлен и все три женщины не подтвердили согласно, что задержанного гражданина зовут Филипп Демаи, что он гравер и истый якобинец. И все-таки заподозренному пришлось предъявить удостоверение о благонадежности, которое оказалось при нем совершенно случайно, ибо в делах такого рода он отличался крайней беззаботностью. Только этой ценой удалось ему вырваться из рук деревенских патриотов, поплатившись пустяком — разорванной кружевной манжетой. Национальные гвардейцы, от которых ему досталось больше, чем от прочих, даже извинялись перед ним: теперь они предлагали торжественно отнести его на руках в мэрию.
Получив свободу, окруженный гражданками Элоди, Розой, Жюльеной, Демаи с горькой усмешкой посмотрел сверху вниз на Филиппа Дюбуа, которого он недолюбливал и подозревал в вероломстве.
— Дюбуа,— сказал он,— если ты еще раз назовешь меня Барбару, я буду звать тебя Бриссо; это толстый, смешной человечек, с жирными волосами, лоснящейся кожей и липкими руками. Никто не усомнится, что именно ты гнусный Бриссо, враг народа, и республиканцы, охваченные при виде тебя ужасом и отвращением, повесят тебя на первом же фонаре… Понял?
Гражданин Блез, приведший свою лошадь с водопоя, уверял, будто это он уладил все дело, хотя всем казалось, что оно уладилось без него.
Сели опять в экипаж. Дорогою Демаи сообщил вознице, что некогда на равнину Лонжюмо, которую они проезжали, свалилось несколько обитателей Луны и что формой тела и цветом кожи они походили на лягушек, но ростом были значительно выше. Филипп Дюбуа и Гамлен беседовали об искусстве. Дюбуа, ученик Реньо, побывал в Риме. Он видел там фрески Рафаэля и ставил их выше всех шедевров живописи. Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибала Карраччи, рисунок Доменикино >{386}, но он не находил ничего, что могло бы сравниться по стилю с картинами Помпео Баттони >{387}. В Риме он посещал господина Менажо >{388} и госпожу Лебрен >{389}, но так как оба они относились к Революции враждебно, то он не упомянул о них. Зато он расхваливал Анжелику Кауфман >{390} за ее изящный вкус и знание античности.
Гамлен с сожалением говорил о том, что вслед за расцветом французской живописи — запоздалым, ибо он начался только с Лесюэра, Клода и Пуссена >{391} и соответствует по времени упадку итальянской и фламандской школ,— последовало такое стремительное и глубокое падение. Он считал причиной этого общественные нравы и Академию, бывшую, так сказать, их зеркалом. Но Академию, к счастью, упразднили, и теперь Давид и его ученики на основе новых принципов создают искусство, достойное свободного народа. Среди молодых художников Гамлен без малейшей зависти ставил на первое место Эннекена и Топино-Лебрена. Филипп Дюбуа предпочитал Давиду своего учителя Реньо, а в юном Жераре видел надежду современной живописи.