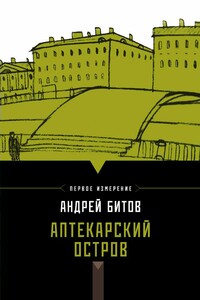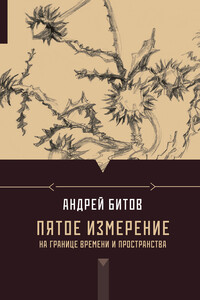Преподаватель симметрии - страница 54
язык.
Прихожу к выводу, что русская литературная речь не заслужила еще тех же степеней свободы, что наш язык, что она по природе своей застенчива и целомудренна, как деревенская барышня девятнадцатого века. Почему и все, что касается всех наших естественных отправлений, выделено в специфическую и замечательную, запретную устную речь в форме мата. Но он подцензурен. Поэтому и в нашей прекрасной литературе ничего вы не найдете о том, что больше всего всех интересует, ничего интересного. «Интересненькое» в подобном контексте уже звучит неприлично, как любая попытка литературной подмены. Приходится повторять, что мат гораздо пристойнее любых попыток приличной замены, что уродливо как раз не его уместное употребление, а патологическое восприятие мата, усматривающее за каждым словом соответствующий зрительный образ. Все эти интимные места – лоно и мужское достоинство, все эти овладеть, проникнуть, познать – куда противоестественнее нашего мата, противнее и даже похабнее (вот словечко-то, как часовой вставшее на границе того и другого!). Утешает меня в случае с Тайрд-Боффином лишь некоторая уже старомодность его описаний. Так что остается мне, вместе с ним и его героем, максимум заглянуть под юбку, а вместе с героиней – отдаться (в данном случае тому, что получится в тексте).
В результате собственного опыта со всей этой иностранщиной переводчик приходит к патриотическому выводу, что лучше русской литературы все равно никакой нет, потому что ни одна не отдается с той же искренностью своей снова заштопанной целомудренности родному языку (как гурия в мусульманском раю). Так что так называемая непереводимость амбивалентна: не потому не переводимо, что трудно передать другой язык, а потому, что твой собственный ни на какой другой не переводим.
(Твой навеки… что, однако, вытворяет мне именно в этом пассаже компьютер! Стал соавторствовать, как патриот: я хочу написать «твой, и ничей другой», а он начинает сглатывать при каждом интервале букву и наконец выдает мне подсказку: «твой навеки». У меня и близко в мозгу этого слова не стояло! Что ж, может, он и прав, что – навеки… либо я устал, либо он. Усталость тот же вирус.)
1. Рис
Я думал, сердце позабылоСпособность легкую страдать.Я говорил, тому, что было,Уж не бывать! уж не бывать!Алекс Кэннон
Урбино Ваноски, двадцатисемилетний недостаточно, но уже известный английский поэт смешанного польско-голландско-японского происхождения (во втором, третьем и четвертом поколении), не знающий ни одного из этих языков и ни разу ни в одной из своих родин толком не побывавший, автор почти нашумевшего сборника стихов «Ночная ваза» (непереводимое словосочетание, означающее скорее «Вазу в ночи»), практически, однако, не разошедшегося, кроме разве поэмы «Четверг», включенной впоследствии в одну из представительных антологий, – печального стихотворения, отразившего, по-видимому, личный опыт автора, например, в таких строках:
и т. д. и т. п., то есть тот самый Ваноски, который решил чего-то не пережить, то ли бесславия, то ли некой драмы, и покончить, но еще более решительно, чем просто с жизнью, а именно что со своей жизнью, в корне изменив ее образ, включая и собственное имя, на манер тех японских поэтов, что к сорока годам, достигнув всего, бросают это все, исчезают, испаряются и, добившись нищеты и инкогнито, начинают поэтический путь с нуля, как никому еще не ведомые, но уже наверняка гении… Влюбившись в Басё, кстати и некстати его цитируя, покрутив так и сяк свое прежнее, и так пропавшее, имя, он наконец достиг более или менее человеческого сочетания из тех же букв: Рис Воконаби. (Это ему напомнило нечто из японской кухни[32].) Первый же сборник стихотворений, выпущенный под этим псевдонимом, принес ему успех у избранного читателя и благосклонные отзывы критики: стал «открытием».
Так Урбино стал Рисом.
В один прекрасный день (в наш век для этого выбираются прекрасные дни, а дурная погода – старомодна), в один такой день и даже час, жизнь Риса, казавшаяся ему, несмотря ни на что, жизнью, то есть тем, что не вызывает сомнения в полной самой себе принадлежности, оказалась нежизнью, то есть не жизнью в ее непрерывном и безусловном значении, а лишь способом прожить (пережить) определенный, еще один, отрезок времени; так вот, жизнь оборвалась, оказавшись отрезком, с трагическим ощущением продолжения себя в пустоте, как бы пунктиром; это несуществующее продолжение оборвавшегося отрезка ныло: своего рода случай каузалгии – боли в утраченной конечности.