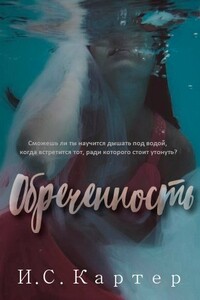— Еще чего. Я же не простая девчонка.
Мне совершенно не удавалось поддерживать диалог. Если честно, мне с каждым днем становилось все труднее общаться с людьми, даже с близкими.
— Ты не против, если я немного побуду с бабушкой Пру?
— Конечно, нет. Сбегаю пока, посмотрю, как там Баде. Если мне не удастся приучить ее к туалету, то ей придется спать на улице, а она ведь домашняя кошечка. — Лиа бросила книжку на стул и испарилась из комнаты с душераздирающим магическим звуком.
Я взглянул на бабушку Пру.
Она стала совсем маленькой, а количество трубочек увеличилось. Она как будто превращалась в некий странный агрегат. Она напоминала яблоко, которое сушат на солнце — морщины появлялись на ее лице в самых неожиданных местах. Сначала я прислушивался к ритмичному пульсированию пластиковых манжет на ее лодыжках — расширение-сжатие, расширение-сжатие. А может, именно из-за них она не может ходить, смотреть вместе с Сестрами «Свою игру», жаловаться на жизнь и безгранично любить ее…
Я притронулся к ее плечу. Около торчащей из ее рта трубки с каждым выдохом появлялись пузыри. Звук ее дыхания, влажный и прерывистый, был булькающим, как вода в ионизаторе. Пневмония… Такой диагноз ей поставили. Судя по статистике, большинство пациентов, находящихся в коме, умирает именно по этой причине. Неужели бабушка Пру вскоре превратится в очередную цифру в колонке данных?
Промелькнувшая в голове мысль едва не заставила меня схватить контейнер и вышвырнуть его в окно. Однако вместо этого я взял бабушку Пру за руку — ее пальчики показались мне хрупкими, как замерзшие зимние ветки. Закрыв глаза, я сплел свои сильные пальцы с ее и прижался лбом к ее ладони. Мне захотелось, чтобы она очнулась и улыбнулась мне, а бесчисленные трубки и пластыри чудесным образом исчезли. Может, мне помолиться? Если сильно надеяться на что-то, вдруг так и случится?
Задумавшись, я открыл глаза, ожидая увидеть унылую больничную койку и депрессивные персиковые стены. Но я очутился совсем в другом месте: на залитой солнечным светом лужайке перед домом Сестер.
И все было в целости и сохранности: и стены, и, крыльцо, и черепица на крыше…
Вдоль ведущей к изогнутому пандусу дорожки росли гортензии — любимые цветы бабушки Пру. Через двор натянули веревку с поводком для Люсиль. На веранде лежал йоркширский терьер, подозрительно похожий на Харлона Джеймса.
Собака имела более золотистый окрас, но я узнал ее и, наклонившись, прочитал надпись на ошейнике: «Харлон Джеймс III».
— Бабушка Пру! — позвал я.
На веранде стояли три белых кресла-качалки и плетеные столики. На одном из них обнаружился поднос с двумя стаканами лимонада. Я выбрал кресло, находящее посередине, поскольку на соседнем, ближе к лужайке, всегда сидела бабушка Пру.
И я принялся ее ждать.
Ведь именно она перенесла меня сюда.
Я почесал Харлона Джеймса III за ухом. Странное ощущение: я все-таки помнил, что его чучело переехало к нам в гостиную. За спиной послышалось шуршание. Вздрогнув от неожиданности, я обернулся:
— Бабушка Пру!
Она чуть-чуть напугала меня своим появлением. И она выглядела не лучше, чем в реальном мире, в своей больничной палате. Бабушка Пру закашлялась, и я услышал ритмичное жужжание аппарата искусственного дыхания. Пластиковые манжеты у нее на щиколотках равномерно сокращались и надувались.
Ее лицо казалось полупрозрачным, кожа была бледной, и сквозь нее просвечивала сетка синевато-фиолетовых вен.
— Я скучал по тебе, — заговорил я. — И Грейс, бабушка Мерси и Тельма! И Эмма, конечно.
— Эмма навещает меня почти каждый день, а твой папа по выходным. Они заходят поболтать со мной куда чаще, чем некоторые, — заявила она.
— Прости меня…
— Ладно-ладно, Итан, — замахала она на меня руками. — Меня посадили под домашний арест, как преступников, которых показывают по телевизору в новостях, — объяснила она и покачала головой.
— Бабушка Пру, а где мы сейчас?
— Понятия не имею. Кстати, времени у меня не много, здесь не заскучаешь.
Она расстегнула ожерелье и сняла с него подвеску. В больнице на ней не было никаких украшений, но я тотчас узнал его. Бабушка Пру часто упоминала, что оно досталось ей от отца, а тому — от его дедушки, то есть в те времена, когда меня «еще и в замысле Божьем не было».