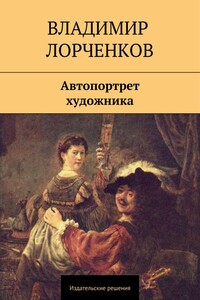— А я… могу взглянуть?
— Макс, мне кажется, сейчас слишком темно для этого, — вступил было Мишка.
— Да не волнуйся, в сарае есть свет, — совершив усиленный рывок, Пашка встал на ноги, — пусть посмотрит, раз ему надо.
— И я могу даже… взять что-нибудь из этих вещей?
— Да пожалуйста, Господи! Они нам не нужны, а выбрасывать жалко — сам понимаешь.
«Да, понимаю», — подтвердил я про себя, перебивая тревожно бьющееся сердце: сейчас Олька подарит мне, наконец, свои вещи… и я стану обладателем рая.
Нет, не стану…
Пашка отворил двери сарая, зажег свет и указал на дряхлую картонную коробку, туго забитую под скамью, — передняя стенка коробки выгнулась вперед; в центре образовалась тупоугольная вершина, как у пирамиды, с разбегающимися в стороны узловатыми морщинами.
— Ты всю ее возьмешь? Зачем?
— Да, всю.
Осторожно, чтобы не задеть садовые инструменты, висевшие на стене в железных ячейках, и не устроить обвал, неловкими движениями Пашка принялся вытаскивать коробку.
— Помоги мне… ну же… вот так… Есть! — он принялся отряхивать руки и обтирать их о майку, — утащишь сам дальше? Она вроде бы не очень тяжелая.
Я откинул кусок старой скатерти, которым было прикрыто содержимое коробки, и принялся неверными движениями перебирать вещицы: дамское зеркальце, заляпанное краской, несколько черных фломастеров, запыленная наклейка, маленькая игральная кость, семерка пик…
Семерка пик? Что-то знакомое…
Боже, ни тогда, ни теперь я не в силах передать всю полноту чувств, охвативших меня в первый момент. В груди гудело. Голова словно бы превратилась в увесистую гирю, которую я с превеликим трудом удерживал теперь на собственной шее. Я перестал чувствовать руки — они дрожали, едва ли не бились в судорогах. И самое главное… казалось, несколько секунд я мог видеть собственные глаза, через которые проносились неясные изображения… кадры… как пленка в кинопроекторе.
Я снова опьянел, только это был уже не результат действия алкоголя.
…Какие-то из этих вещиц я отлично помнил, но более всего в этой коробке оказалось почему-то спущенных резиновых шариков, — ослабленные ниточки болтались тут же, на концах; несмотря на солидный возраст, шарики похоже, отлично сохранились. Сколько их? Десять? Пятнадцать?.. Не меньше десяти.
Сзади послышался оклик:
— Макс!
Это был Мишка. Я обернулся, но не сказал ни слова. Большой и указательный пальцы моей руки сжимали ниточку на шарике.
— Пойдем домой.
Я понял, что он почти трезв.
— Кажется, мы собирались сидеть всю ночь.
— Пашка пошел спать.
— Когда он успел?
Я-то даже не заметил, как он из сарая ушел! Видно, с того момента, как мы вытащили коробку, прошло порядочно времени.
— Только что. Пошли, — повторил Мишка, — у нас посидим, если хочешь.
— Слушай, разве у Ольки были когда-нибудь воздушные шарики?
— Нет. И не могло быть. Она их не любила, ты помнишь? С раннего детства. Еще рассказывала, как аж до двенадцати лет начинала плакать от испуга, навзрыд, когда рядом с нею лопался шарик.
— Да, да, я это тоже помню. И это совершенно не сочеталось с ее взрослостью.
— Точно.
— Но откуда тогда здесь эти шарики? — я кивнул на коробку.
— Я не знаю, возможно, это Широковы их сюда положили. Уже после прибытия коробки.
— Зачем?
— Откуда мне знать?
— Поможешь нести? Тут ручек нет, придется за дно держать…
— Так-так, Макс, перехвати… нет, по-другому… во-о-от…
Коробка была не тяжелая, но тащить ее было жутко неудобно.
— Смотри, чтобы на землю не свалилось… упало уже что-то? Чертова темнота — ничего не разглядеть! — выругался Мишка.
Мы опустили коробку.
— Что там?
— Фломастер упал.
— Ага! Скорее всего, это один из тех, которыми я купюры тебе рисовал.
Я рассмеялся. Мы потащили дальше.
— Как они назывались? Пиастры, кажется?
— Нет, какие пиастры! Экю, — сказал я.
— Ах, да. Пиастры я, значит, на другой даче рисовал.
— На другой? — легкий укол разочарования.
— Но я же тогда еще на другую дачу ездил, на материну… да и сейчас, бывает, выбираюсь туда… послушай, по поводу твоего старого романа… ты не обиделся, что я сказал Пашке, будто ты пустую тетрадь привез?
— Нет.
— Это совершенно не потому что… ладно, послушай… я же понимаю, ты очень расстроился после того, как узнал о Перфильеве — от Пашки. Вернее, после того, как