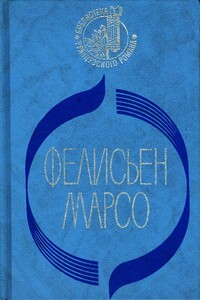Поначалу Вырубов опасался этих людей, полагая, что они обязательно станут пугать его какими-нибудь ужасными разговорами или, чего доброго, набрасываться с кулаками, но в скором времени ему стало ясно, что больные санаторного отделения — народ, в общем, спокойный и безобидный.
На другой день пребывания в сумасшедшем доме Вырубова вызвал к себе заведующий санаторным отделением, очень полный мужчина с залысинами и бачками. Он закурил сигарету и, прокашлявшись, сообщил, что на самом деле у Вырубова нет ничего серьезного, что все это от впечатлительности и переутомления, что месяца через полтора его обязательно вернут в строй. Он так и выразился: «вернут в строй».
— Инсулин, трудотерапия, аутотренинг, — закончил он на высокой ноте и странно посмотрел вдаль, точно он впервые задумался о значении этих слов.
Вырубова поселили в самой дальней палате, где он стал четвертым жильцом по счету. Один из трех его соседей был дряхлый старик, который оказался — сколь это ни удивительно — вовсе не пациентом, а здешним жильцом в самом прямом смысле этого слова; когда-то он был психиатром и занимал должность заведующего отделением, а после того, как по старости лет получил отставку, поселился в своей больнице на правах ветерана психиатрии, потому что был болен и одинок. Второй сосед оказался шеф-поваром ресторана «Лесная быль»; в сумасшедший дом его упекла жена за то, что он сжег на спиртовке свою зарплату. Третий сосед, совсем еще молодой человек, корректор издательства «Московский университет», сорвался на конъюнктурной правке: он просидел над ней полные двое суток, а на третьи стал смахивать со стола знаки препинания, на которые он впоследствии охотился, как на мух. «Это у меня такое сафари», — объяснял он и сконфуженно улыбался. Но во всем остальном это был вполне здравомыслящий юноша, и, если бы не его причудливое сафари, вполне можно было бы заподозрить, что какие-то злые силы засадили корректора в психиатрическую больницу. Некоторое время спустя, незадолго до того, как Вырубова вылечили и выпустили, к ним прибавился еще один пациент, у которого было раздвоение личности, но какое-то заковыристое раздвоение личности, этот больной все твердил: «Мы друг от друга неотторжимы».
Жизнь в сумасшедшем доме была удручающе однообразной. Всякий день начинался с того, что бывший психиатр Тихон Петрович, который всегда поднимался первым, начинал делать утреннюю гимнастику, но так как при этом он очень громко кряхтел, отдувался и противно скрипел суставами, палата просыпалась раньше положенного срока и сквозь утреннюю дрему принималась поругивать старика.
Корректор говорил:
— Интеллигентный человек, а глупостью занимаетесь.
— О душе, старик, о душе пора подумать, — поддакивал шеф-повар и отворачивался к стене.
Несколько раз они подсыпали психиатру снотворное, которое крали у старшей медицинской сестры Галины Григорьевны, но психиатр был на удивление закаленный старик — ничего его не брало.
Вскоре после пробуждения начинались утренние процедуры, среди которых самыми неприятными были инъекции инсулина; неприятность заключалась, собственно, в том, что сразу после укола больной начинал впадать в обморочное состояние, и соседи, подхватив беднягу под руки, спешно волокли его в палату из процедурного кабинета, а он обмякал, обмякал и страшно закатывал стекленеющие глаза; это была настолько угнетающая картина, что от нее мог бы свихнуться самый здравомыслящий наблюдатель. После процедур следовал завтрак, а после завтрака утренняя прогулка в загончике санаторного отделения, который был огорожен зеленым штакетником и в планиметрическом отношении представлял собой усеченную пирамиду. Эту первую прогулку Вырубов недолюбливал, так как по утрам в их загончик изо дня в день пробирался сумасшедший из соседнего отделения по прозвищу Шахматист, который всех по очереди заставлял играть с собой в шахматы, включая даже тех, кто об этой игре понятия не имел. Его все побаивались и играли, причем играли непременно на проигрыш, иначе с Шахматистом делался припадок и можно было запросто получить шахматной доской, что называется, по башке.