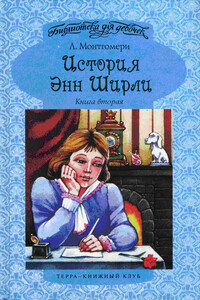Я читал Тиллиха, и мне было приятно, что я почти со всем согласен. Он писал так разумно: не бил в барабан, не тряс бубном, не подсовывал читателю какие-то сказки. Чуть ли не на каждой странице я наталкивался на собственные мысли. Я-то боялся, что мысли эти богохульные, а они — вот, пожалуйста, выражены словами, и не кем-нибудь, а великим богословом. Меня согревало сознание того, что мой ум не отстает от его ума, что почти все, что приходило в голову ему, приходило и мне. Правда, изъяснялся Тиллих специальным языком, но все равно между нами было много общего. Не прозевал ли я своего призвания?
В этом приятном заблуждении я находился недолго. Через несколько дней, когда я во время очередной пробежки размышлял о близости наших с Тиллихом взглядов, правда поразила меня как гром. Да ведь Тиллих верит не больше моего! Он так же запутался, как и я! Просто он выразил сомнения и надежды вычурным языком — вот и все. Еще в университете я заметил: чем меньше человек уверен в том, что он излагает, тем заковыристее он это делает. То же самое я наблюдал и в армии, и когда работал в банке. Тиллих — обманщик, прикрывающий свой обман всяким словесным туманом. Почему его только никто не разоблачил?! Предельная сопричастность, фрагментарная интеграция, дезинтеграция болезни во всех измерениях существа, в терминах большей или меньшей вероятности, онтологические требования подчинения ритуальным методам, реакция спиритуальной автономии — Боже, какая выспренность! Он мог бы выразить все это простым английским языком — только тогда бы все увидели, что сказать-то ему, в сущности, нечего.
Но, может быть, это только Тиллих такой? Я притащил из библиотеки целую груду книг Рудольфа Бультмана, и что же я обнаружил, едва начав читать? Этот верил еще меньше Тиллиха. Бросьте вы все эти мифы, затемняющие смысл Библии, говорил Бультман, поинтересуйтесь-ка лучше их значением. А если вас интересует человеческая ситуация, попробуйте заглянуть в Хайдеггера. Да, для того, кто попытается разобраться в апостольском Символе веры, пользы от Бультмана ноль. А как насчет Карла Барта? У него, я слышал, как и у Бультмана, какие-то нелады с либералами. И я углубился в Барта, в его теологию кризиса, и, действительно, увидел, что это совсем другое. Страшные перипетии нашего века, писал Барт, заставили многих людей сомневаться как в Боге, так и в прежних способах объяснения его существования; Бог есть неведомый Бог, а откровение лежит за пределами истории и философии; наша надежда в откровении, а не в разуме. Все это звучало неплохо, но если то, о чем говорит Символ веры, лежит за пределами истории, значит, это миф, и мы снова возвращаемся туда, откуда начали. Потом я попробовал почитать Рейнхольда Нибура. Продравшись сквозь множество страниц, посвященных власти, любви и справедливости, я в результате обнаружил, что и у Нибура нет никаких ответов. Возможно, эти господа писали свои труды с самыми лучшими намерениями, но как они могли читать Символ веры и сохранять при этом серьезное выражения лица? Проведя в их обществе несколько месяцев, я пришел к выводу, что все они — просто шарлатаны. Лишь богословский апломб да громкие слова мешали увидеть, что они не имеют ни малейшего представления о том, что пишут.
Поскольку книги не принесли мне никакой пользы, надо было искать помощи где-нибудь еще. А что если обратиться к человеку, к которому, к слову сказать, мне следовало бы пойти с самого начала — к моему священнику? Эта мысль и раньше приходила мне в голову, но я относился к ней с осторожностью. Приход наш обслуживал отец Петтигрю — проще говоря, Пол, — и был он, что называется, душа-человек. Он жил раньше в Мемфисе, что не так уж далеко от Нашвилла, учился в одно время со мной, поэтому у нас была масса общих знакомых. Пол занимался продажей облигаций, когда однажды услышал глас свыше, призвавший его в священнослужители. Мы уже так много лет работали вместе над церковным бюджетом, так часто обменивались церковными слухами и выпили столько стаканчиков в его кабинете после заседаний приходского совета, что просить его о пастырском попечении мне страшно не хотелось: в таком деле требуется не друг-приятель, а солидный, по-отечески настроенный человек. Но делать было нечего: лучше уж раскрыть душу перед Полом, чем маяться во время воскресной службы.