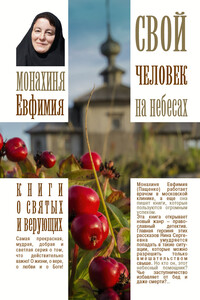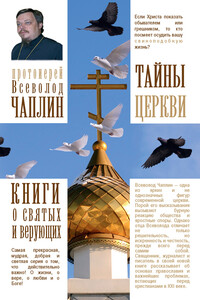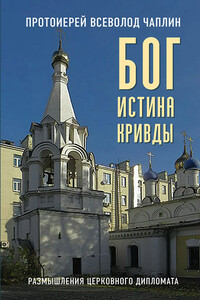Кстати, еще один признак нетвердости в вере – это невозможность ее выразить без многословных объяснений. Вспомним, что сказал Сам Спаситель: Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5: 37). Символ веры – один из самых кратких по нынешним временам доктринальных текстов. Всегда, когда в ответ на простой вопрос пытаются развернуть длинные рассуждения, попутно до неузнаваемости извращая суть самого вопроса, – жди неправды, попытки что-то скрыть либо ничего не ответить.
* * *
Евгений Водолазкин приводит такие слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Если бы мы знали ответы на все вопросы, знали бы точно (а не только свободно верили в существование Бога), мы были бы лишены свободы. <…> Поэтому-то Бог открывается только тем, у кого вера в Него достигает уверенности знания, то есть святым».
Прекрасный ответ тем, кто требует чудес, доказательств, полноты уверенности и знания «здесь и сейчас», без работы над собой и без опыта духовной жизни. Требующие всего этого на самом деле бегут от свободы – или, наоборот, вовсе не собираются никакой долей свободы пожертвовать. Покажи таким чудо и «доказательство» – и совсем перестанут думать. Или потребуют еще более грандиозных чудес, еще более убедительных доказательств, дабы только не расстаться со своими грехами… Дабы не заметить, что Бог может явить Себя не только святым, но и кающимся грешникам – в Евхаристии, в Своей благодати. Или просто не захотеть, чтобы Он явился, – ведь встреча с Ним может изменить всю жизнь!
* * *
«Брак честен и ложе нескверно». Воистину так, и «бракоборчество» среди православных христиан недопустимо. Вот только всегда ли мы помним, что речь идет именно о христианском браке, о «малой Церкви»? Не о тесном мирке, в котором муж заботится, как угодить жене (1 Кор. 7: 33) в житейских нуждах, а о такой семье, в которой, если будет надо, ее глава благословит и супругу, и чад на мученичество, а те с радостью на него пойдут?
* * *
Жизнь – это движение к осознанию того, как мало ты можешь. Но, поняв это, ты вовсе не получаешь права говорить от имени всех, от имени жизни как таковой. Христианин не должен опускать руки, даже если он слышит трубный глас Апокалипсиса. Он не может по-человечески ничего, но дерзновенно восклицает: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4: 13). И не случайно окружающие удивляются нашей решимости и энергии, нашему самозабвению и отказу от человеческого расчета сил.
Иногда говорят, что «пафос борьбы», который то здесь, то там да полыхнет в православной среде, – это признак малой церковности. Может быть, отчасти это верно. Отсутствие мирного духа действительно говорит о духовном нездоровье. Но мы не должны уклоняться от прямого свидетельства об истине, от того, чтобы называть ложь – ложью, порок – пороком, ересь – ересью… Только делать все это надо с миром в сердце. С ненавистью ко греху и с любовью к грешникам. Если будем говорить правду не для того, чтобы «уничтожить врага», а для того, чтобы помочь грешнику покаяться, наше обличительное слово не останется бесплодным.
* * *
Наши критики любят попенять на то, что большинство наших современников, именующих себя православными, не знают в подробностях церковного учения. Так, между прочим, было и много веков назад. Но не случайно социологи говорят, что людей, обладающих пытливым умом и способных жить убеждениями, – не более 10 процентов. Для большинства же достаточно доверять Церкви, говорить себе: я этого не знаю, но соглашаюсь с тем, чему Церковь учит. Можно не разбираться в тонкостях богословия, но верить жизненным примерам, голосу и делам любви, а главное – принимать в сердце благодать Божию. Если таких людей в народе большинство, он и является православным. Даже если не отличает Флоренского от Флоровского и – о ужас! – не помнит, какой Собор что постановил. Воспитать именно таких людей (не забывая, впрочем, об интеллигенции, которой необходима и пища для ума) – задача для нас более важная, чем насыщение интернета тоннами информации.
* * *
В XX веке много говорили о разрыве между богословием и жизнью, о том, как его преодолеть. Одно из последствий этого разрыва – очень разные, до противоположности, представления о человеке. Читаешь классических богословов – и понимаешь, что они говорят о личности почти идеальной, которая обладает сильным умом и крепкой волей, осознанно и самостоятельно делает духовный и нравственный выбор. Читаешь древнюю аскетическую литературу, наставления современных духовников – и видишь человека слабого, подверженного случайным страстям, мятущегося, колеблющегося, безвольного, ничего не понимающего, за которого Бог и диавол борются, а сам он в этом участия почти не принимает…