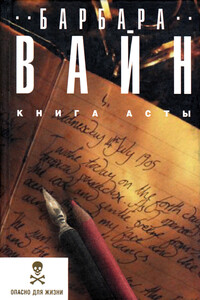— На какие-то журналы, — говорит он. — Я его туда положил. Потом… дочь дала мне ежедневную газету. Думаю, я просмотрел ее, отложил…
— Папа, мы все это уже обсуждали. — Ни намека на нетерпение. — Ты положил газету на блокнот, который был на журналах, а я отправила всю кипу в мусор. Я не заметила блокнот, он был спрятан под газетой.
— Тебе виднее, девочка моя.
— Газеты стали такими толстыми, — светским тоном произносит Кэролайн. — В них столько всего.
Ясно, что блокнот потерян, причем безвозвратно. Я представляю, как он лежит в мусорном контейнере, между «Дейли телеграф» — у меня нет сомнений, что Тони, как и Вероника, читает «Дейли телеграф», — и женским журналом, а сверху спортивное приложение и официальная хроника. Я вижу, как этот контейнер стоит во дворе дома и мусорщики, или как там их теперь называют, с кряканьем поднимают его и опрокидывают в свой грузовик с решетчатыми бортами. Блокнот выскальзывает из него и падает на груду газет, журналов упаковок от печенья, пакетов от кукурузных хлопьев и распечаток электронной почты. Все это отправляется в утилизационный рай, куда в наше время после смерти попадают хорошие газеты. Чтобы превратиться в серые конверты с надписью на клапане: «Изготовлено из вторичного сырья».
— Теперь уже поздно, — говорю я.
Тони печально качает головой.
— Мне ужасно жаль. Мне нельзя одному выходить из дома.
Ему нельзя одному оставаться дома. Разумеется, я этого не говорю. Я пытаюсь извлечь максимум из того, что есть. У меня нет выхода. В конце концов, это же не единственный экземпляр рукописи Карлейля «Французская революция», который бросила в огонь горничная Милля, правда? Всего лишь записки старика, ключ к загадочному volte-face[65] характера, понять без них его невозможно.
— Вы его читали? — спрашиваю я.
— О, да. — Тони явно забеспокоился. — Но лучше бы я этого не делал. Думаете, я мог забыть, раз забываю все остальное?
— Послушай, папа, — перебивает Кэролайн. — Ты не забываешь все, и тебе это прекрасно известно.
— Слава богу, у меня есть ты, девочка. Ты моя память.
Я спрашиваю, что такого было в записках, чего нельзя забыть.
— Я знаю, что такое раскаяние, — говорит Тони. — Лучше других.
Старик умолкает.
— Он имеет в виду маму, — объясняет мне Кэролайн, словно туповатому ребенку. — Он имеет в виду маму и аварию. И винит себя, правда, папа?
— А кого еще мне винить, милая? Это была моя вина. Я убил ее, как если бы положил мышьяк в чай.
Кэролайн пожимает плечами. Она все это уже проходила. Вероятно, не один раз. Может, она согласна с отцом. В то время ей было двадцать два, и она вряд ли сидела в машине с родителями. Но ей известны факты. Вероятно, проводилось расследование и даже предъявлялось обвинение — что бы там ни говорила Вероника. Может, Тони выпил или заснул за рулем. Я в замешательстве смотрю, как в уголках глаз старика появляются слезинки и медленно скатываются по щекам. Кэролайн встает, вытирает отцу лицо салфеткой, которую берет из коробочки на столе, и говорит, словно он глухой или потерял разум:
— Он плачет. Не обращайте внимания. Со стариками это бывает, особенно с теми, кто перенес инсульт; я постоянно вижу такое в доме для престарелых. Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят, что человек впал в детство.
Я давно не встречал таких бесчувственных людей, как Кэролайн, — хотя нет, Вероника еще хуже, — но Тони этого не замечает. Он слабо улыбается. И даже благодарит дочь. От всего этого мне становится неловко, и я размышляю, стоит ли продолжать. Наверное, не стоит, если Кэролайн останется здесь, по-прежнему будет сидеть между нами. Но тут вмешивается случай, которого я не ждал и на который даже не смел надеяться. Звенит дверной звонок, и Кэролайн идет открывать.
— Я на минутку, — говорит она, но минутка растягивается надолго, как это часто бывает в подобных случаях.
Позвонившего в дверь приглашают войти, и поскольку гостиную занимаем мы с Тони, провожают куда-то еще. В кухню? В спальню Кэролайн? Я не знаю, но услышав, как закрывается дверь, предлагаю налить Тони еще чаю. Раскаяние. При чем тут раскаяние? Чье раскаяние?