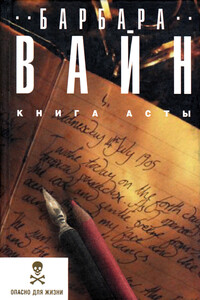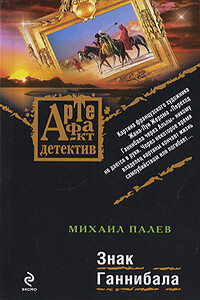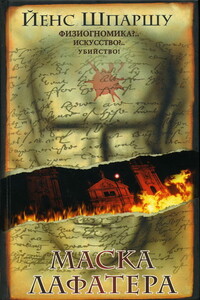— Вы можете вообразить что-то более жестокое? — вопрошает Джорджи.
Мы не можем. Мы качаем головами, хотя ничуть не удивлены. Даже Дэвид, который, по словам Джуд, наконец внял библейскому совету — оставил мать свою и прилепился к жене своей[56], — говорит, что Вероника бывает очень жестокой. И он абсолютно уверен, что не был проказником в детстве, это ее очередная фантазия.
— Я так хочу, чтобы вы забеременели, — говорит Джорджи, обращаясь к Джуд, словно та сама не хочет. — Знаете, когда это произойдет, я могу так обрадоваться, что рожу еще одного ребенка, чтобы составить вам компанию.
Лицо Дэвида вытягивается.
— А со мной не посоветуются?
— Конечно, посоветуются, дорогой. И не только, — она смеется, и Галахад тоже. — Ты будешь участвовать, как и в прошлый раз. Ты разве не помнишь?
Галахад смеется так громко, что Джорджи — наподобие людей, утверждающих, что их домашние питомцы понимают каждое слово, — убеждена, что ее сын даже в таком раннем возрасте знает о продолжении рода. Мы меняем тему разговора, хотя и не совсем. Дэвид захватил с собой последний вариант генеалогии, но, как мне показалось, с прошлого раза таблица почти не изменилась. Я добавляю к ней семью Корри и спрашиваю о женщинах, известных мне только по именам, но Дэвид знает лишь, что Люси замужем — его приглашали на свадьбу, — а Дженнифер, кажется, нет. О Кэролайн он ничего не знает, но говорит, что выяснит в архиве записей актов гражданского состояния, и я соглашаюсь, чтобы он оказал мне эту услугу.
— Моя мать не знает. Я ее спрашивал. Такое впечатление, что она поссорилась с Патрисией и с Дианой тоже.
Еще более вздорная женщина, чем мне представлялось. Я говорю ему, что должен еще раз встретиться с Вероникой. Дэвид настораживается.
— Не думаю, что мы можем пригласить ее, Мартин. Уж точно не теперь. Как-нибудь позже. — Он понижает голос, хотя Джуд с Джорджи на кухне и их видно только через окошко для подачи еды. Его свистящий шепот смешит Галахада. — Вы, должно быть, заметили, что они с Джорджи не ладят. Моя мать иногда крайне неудачно выражается. А жена бывает очень эмоциональной.
— Я подумывал, не съездить ли к ней в Челтенхем.
Его лицо проясняется.
— Конечно, почему бы и нет? Хорошая мысль. Знаете, она очень гостеприимна. Приезжайте к ней на чай, и она начнет печь за несколько дней до вашего приезда. — Дэвид желает знать, о чем я собираюсь спрашивать Веронику. Хотя совершенно очевидно, что его интересует лишь одно — избежать присутствия матери в своем доме. Возможно, Дэвид собирается сам приезжать в Челтенхем или поселить ее в гостинице, когда она в следующий раз явится в Лондон. — Я дам вам номер телефона. И ее адрес. Может, вы предпочтете сначала написать? Думаю, ей это понравится, предварительное письмо. Кстати, вы ведь не будете — я уверен — упоминать Ванессу, да?
Я не разубеждаю его, хотя, разумеется должен поговорить о Ванессе, поскольку это одна из главных причин моего визита. Адрес я уже знаю, получал от нее письмо. Возможно, Вероника откажется, но шанс упускать нельзя. Она может даже не знать, что ее сестра умерла. Или ей все равно. У меня возникают самые невероятные предположения относительно этих сестер, их родственников и моей двоюродной бабки Элизабет Киркфорд, но я гоню эти мысли прочь. Не хочу тратить время на фантазии, которые могут оказаться бесплодными, когда Вероника со мной поговорит. Если поговорит.
Что касается подготовительной работы, то я приближаюсь к последнему периоду в жизни Генри. Естественно, остались пробелы, причем довольно большие и требующие заполнения, но течение — или поток — его жизни прервется через шесть лет. Он снова выступил в Палате лордов — один раз в дебатах по поводу автомобилей, которые он назвал «кумиром на час», а второй раз предупредил о недальновидности предложения предоставить женщинам право голоса. В его речи, произнесенной в 1904 году, нет ничего нового. Почти пятнадцать минут Генри пространно рассуждал о хрупкости женского здоровья по сравнению с мужским, о регулярных «недомоганиях» женщин, что, по его мнению, приводит к перманентному состоянию легкой инвалидности, об их особой склонности к устройству семейного гнездышка и к домоводству, об их интуиции как противоположности рациональному мышлению мужчин. Все это не имело отношения к предоставлению женщинам права голоса и было направлено скорее на то, чтобы не допускать их в университеты и к определенным профессиям, но никто не усомнился в обоснованности его слов. Взгляды графа Феррерса о возможности женщин быть законодателями, изложенные пятьдесят три года спустя, недалеко ушли от взглядов Генри. Несколько человек, выступавших после него, похвалили высокочтимого лорда Нантера за мудрые слова, которые, как выразился один из них, основаны на экспертных знаниях «врача с потрясающей репутацией». Женоненавистник Генри. Вне всякого сомнения, он был доволен приемом, оказанным ему коллегами, но больше не выступал. Я пролистал официальные стенограммы заседаний за все оставшиеся годы его жизни, но не нашел свидетельств, что Генри хотя бы раз появлялся в Парламенте.