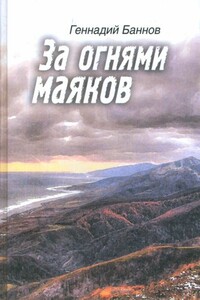Успокаивал я себя лишь одним — первым годом, который мне, как солдатику–салаге кровь из носа (а я и в самом деле как–то посадил кровавую кляксу на учебник — хорошо что не на тетрадь лицеиста) нужно было перетерпеть.
Если бы для этого хватило трудолюбия, которое у меня, хотя и на двадцать седьмом году жизни, но все–таки прорезалось! Мучительно и бесцельно, совсем как зуб мудрости. Моя теперь почти круглосуточная работоспособность рассыпалась как карточный домик, стоило в нее протиснуться престарелому валету — нашему дорогому Сан Санычу. Я чувствовал его сжимающее меня кольцо и даже обзавелся новой навязчивой идеей — ни в коем случае не обзавестись учениками–любимчиками. Что любимчиками — я и передвигался–то на переменах, почти как бразильский футбольный арбитр эпохи Пеле и Гарринчи в перерыве между таймами: маячащая в центральном круге одинокая фигура в черном как символ неподкупности и честной игры.
Меня моя мания привела к тому, что все лицеисты стали для меня словно на одно лицо. Я высиживал в учительской до второго звонка, после чего почти бегом влетал в класс и пулей вылетал из него сразу после звонка об окончании урока и до того, как наиболее общительным из моих воспитанников взбредет в голову окружить меня у доски с целью назойливой демонстрации собственной любознательности. Может, поэтому диапазон выставляемых мной оценок столь узок и нейтрален: семерки, восьмерки и девятки — всего три варианта из десяти возможных. Можно, пожалуй, решить, что историю доверенные мне классы знают в целом лучше остальных предметов, при том что страстных фанатов моего предмета мне вырастить никак не удается.
«Не дождетесь», думал я представляя, как Сан Саныч вербует очередного лицеиста, или, чтобы наверняка, лицеистку, рассчитывая подсунуть мне его (ее?) в любимчики или, что вообще великолепно (и теперь уж точно ее) — в постель. Некоторые взгляды во время урока казались мне особо нетерпеливыми, словно их обладателям не терпелось приступить к возложенной на них миссии. С таких уроков я ретировался заранее, минут за пять до звонка, оставляя класс в радостном, но все же недоумении.
В тот самый день — был понедельник — когда мне сообщили, конечно, в учительской и конечно, последнему из педсостава, о необходимости скинуться на прощальный подарок Сан Санычу, я меньше всего склонен был поверить в правдивость столь ожидаемой и все же оказавшейся такой неожиданной новости.
Новости об уходе Морщинина на пенсию.
Откровенно говоря, это было слишком — вторая неожиданность за один день. И если известие об уходе Сан Саныча касалось меня пусть и не косвенно, но и не совсем прямо, то первая новость — на все сто. Прямее некуда.
— Зайдете в эту пятницу ко мне? В семь часов вас устроит? — остановила меня в коридоре Нелли Степановна, как бы мимоходом и будто что–то вспомнив.
— Да, конечно, — вежливо и чуть рассеянно ответил я. Как и полагается добросовестному подчиненному, отвлечь которого от работы могут лишь два обстоятельства — собственная кончина и вызов к начальству.
— В семь утра? — не без нотки отчаяния воскликнул я, обработав воспринятую поначалу как аксиому информацию.
— Нет, — заулыбалась директриса, — конечно же, не утра. И не в моем кабинете. Я приглашаю вас к себе домой, на небольшое пятничное чаепитие.
Оказалось, это традиция. Не обязательно пятничное чаепитие, да и не чаепитие вовсе. Традиция состояла в приглашении учителей в гости в директрисе — всех, как заверила меня учительница химии, совершенно седая, несмотря на еще не старое лицо, Мария Павловна.
— Теперь, значит, и ваша очередь подошла, — пожала она мне, будто поздравляя, руку, когда я столкнувшись с ней один на один в учительской зачем–то с ходу выпалил о приглашении директрисы.
— Но будьте внимательны, — настороженно наклонила голову химичка. — Это не просто, и даже не столько увеселительное мероприятие. Скорее тест, в особенности, — погрозила мне пальцем она, — для новичков. Как перенесет человек такое доверие, не возгордиться ли. Между прочим, вскоре после такого вечера уволился едва принятый на работу учитель физкультуры. Молодой, знаете ли, парень, почти как вы.