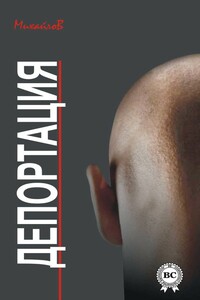Вышли из положения нехитрым и, по сути, комическим образом: отчество реального автора превратилось в фамилию автора литературного. Покрутили так и сяк, попробовали на зуб, посмотрели издалека, набрали полужирным шрифтом – вроде бы возражений быть не должно. Возражений не было.
Рубрика предназначалась для подростков. В забалованных сегодняшних мозгах может возникнуть вопрос: была ли там политика? Нет, не было. По той причине, что темы такой в журналистике не было. Был пропагандистский шквал, в котором мелькали щепки культуры, сучки коммунальных казусов в духе Зощенко, яблочные огрызки преступлений, с ржавчиной давности и справедливым решением суда. Отдельной строкой шли проблемы нравственного воспитания. За этим присматривали строго. Существовала опасность, что автор впадет в абстрактный гуманизм, заговорит о внутренней свободе и, не дай бог, о естественном праве. В этой области присмотр государства был затруднен. Я работал как раз на такой территории, ее прощупывали и изучали в бинокль, лупу и микроскоп.
С благодарностью вспоминаю Александра Матвеевича Шарымова, которого Шевелев вернул в «Аврору» после изгнания того из-за публикации «монархического» стихотворения Нины Королевой. Шарымов и Шевелев приятельствовали в студенчестве. Теперь Саша был вроде как обязан бывшему сокурснику своим возвращением в строй. Тот в свою очередь просил помочь ему поставить журнал после крушения. То есть бдеть и бдеть, чтобы не пропустить очередного идеологического пробоя.
В дружбе Александр Матвеевич был рядовым строевой службы, верным присяге и долгу. Линию главного отрабатывал с присущей ему смекалкой и артистизмом. Но рвение сторожа идеологии никогда не ударяло ему в голову, а также сопровождалось искренним уважением к качественному тексту и его автору. Каким-то образом ему удавалось держать планку интеллигентности и здравого смысла. Тут уместно вспомнить, что после скандала со стихотворением Королевой, который случился до моего прихода в «Аврору», Саша не каялся и не поддакивал негодующим обкомовцам, но заявлял спокойно: «Поэт повел себя, как и должен вести себя поэт: призывал милость к падшим».
В моем случае от него подобного подвига не требовалось. Поначалу Шевелев, глядя на меня комиссарскими глазами, просил, чтобы я вставил в текст что-нибудь из речи генсека на последнем съезде партии, тиснул цитатку из Ленина или, на худой конец, из Маркса. Душевные разговоры эти заканчивались равно безрезультатно. Тогда дело взял в свои руки Шарымов. Он время от времени писал к моему тексту редакционную врезку, из которой явствовало, например, что в «Тетради Прохорова» поднята та самая проблема, на которую настойчиво призывал обратить внимание последний исторический съезд партии. Таким образом, не только не страдало самолюбие главного редактора, а также соблюдался идеологический ритуал, но и я оказывался под прочной защитой.
Между прочим, обратная связь, которая тогда еще в журналах существовала, лишила меня многих иллюзий и избавила от обольщений. Редко приходили письма от людей не задумчивых, а думающих, от талантливых читателей. Чаще это были персонажи, которых принято называть своеобразными: с запущенными комплексами, домашнего изготовления идеями, связанными то с хиромантией, то с опровержением философии Канта. Больше всего пришло откликов на вполне безобидную, на мой взгляд, «Тетрадь» об Алле Пугачевой – читатели упражнялись в способах моего изощренного убийства. На первую, кажется, в истории позднесоветских литературно-художественных журналах публикацию о проблемах секса я не получил ни одного письма.
Эйфория рассвета
Подозрение, что аудитория наша состоит по большей части из людей, с которыми не только не пойдешь в разведку или на баррикады, но и за стол вместе не присядешь, не помешало ни мне, ни моим коллегам встретить первые месяцы перестройки с воодушевлением и надеждой. Все мы, как и полагается, примером пребывающих под спудом творческих сил видели себя. Однако и ощущение нефтяного фонтана народного пробуждения и поумнения было реальным. В литературе с нами заговорили, правда, мертвецы: Булгаков, Шмелев, Кёстлер, Оруэлл, Пастернак, Набоков, Платонов. Плюс к этому, конечно, русские философы. Но какие очереди образовались к гениям! С полок снимали фильмы, пролежавшие там десятилетия. Музыка, живопись, драматургия – всё вынималось из старых запасов. Это не смущало, да и не должно было смущать – в искусстве мгновенный отклик невозможен.