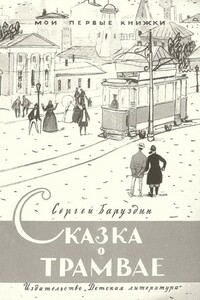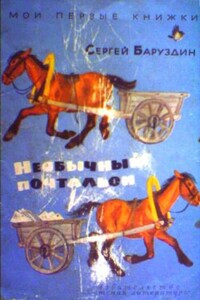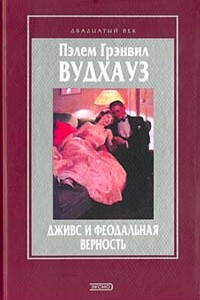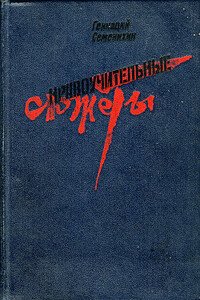— Так точно! — сказали мы с Макакой.
— Ясно, — пробурчал Буньков.
— И хорошо. А теперь готовьтесь в дорогу. Через два часа мы выезжаем на Прагу.
— Разве не кончилось все? — удивился Макака.
— Для кого кончилось, для нас — нет. В Праге восстание. Армия Рыбалко уже двинулась туда. Корпус и мы, — он еще раз взглянул на часы, — через час пятьдесят пять минут — за ними.
Соколова похоронили торжественно, как положено. Сам майор произнес речь. Сказал о смелости лейтенанта.
Закончил словами: «…Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за честь и независимость нашей Родины!»
После похорон мы остались с Буньковым одни.
— …Перед самой войной женился он, — говорил комбат. — Женился на человеке, которого, видно, очень полюбил. Настолько полюбил, что, может быть, и не разобрался в этом человеке как следует. Потом война. Он — в армии. Она осталась в Орле. Немцы пришли. Ну и… узнал: жена, его любимая жена с эсэсовцем спуталась. В Германию с ним удрала. Вот так! Представляешь, что у него на душе было! А тут еще неумные люди нашлись: перестали доверять Соколову. Мол, жена, продалась, мало ли что! И вот человек живет со своей бедой, честно выполняет свой долг, отлично воюет. До последнего дня войны — до победы. А тут… Долг был для него превыше всего!
— Простите, товарищ старший лейтенант, но там… — В комнату вбежал Макака. — Там парня какого-то нашего… Из новичков… Так здорово садануло… Прямо по… Как это называется… в пах… И по ногам…
Мы слетели со второго этажа по лестнице. Растолкали толпу солдат.
— Вадя?
Я не поверил своим глазам.
Вадя сидел на мраморном полу террасы, прислонившись к колонне. Белый мрамор с темными прожилками и следами крови. Вадя корчился от боли, бледный, с осунувшимся лицом.
— Вадя!
— В медсанбат немедленно! Машину! Петров, машину комдива сюда! — закричал Буньков. — Скажи, я приказал.
— Понимаешь, как глупо, — шептал Вадя. — Я вон туда… А он стреляет… я тоже выстрелил… А он очередь прямо сюда… И вот…
Катонинский «газик» подскочил к воротам виллы. Мы с Буньковым и Макакой несли Вадю на руках. Он стонал, скрежетал зубами. Когда не очень ловко положили его на заднее сиденье, Вадя как-то легко вздохнул, потом посмотрел на меня блестящими глазами:
— А ты знаешь, я сейчас бы мог… Еще убить мог… Честное слово. Они — гады… Я бы никогда теперь таких не жалел…
— Вадя, все будет хорошо! Клянусь, все будет хорошо!
Я сам не верил в это.
— Если я, как Саша, — бормотал Вадя. — Как Саша, понимаешь?.. И признаюсь, я теперь совсем не боюсь… Совсем… Только вот умереть… не хочется!
— Глупо как получилось, — сказал Володя. — Не дай бог так…
— Что — так? — спросил Макака.
— Да вот, как Вадька… И до медсанбата не довезли. Смерть, говорю, глупая.
Я опять не выдержал:
— Почему же глупая? А ты посылку пошли — и за Вадю, и за Соколова, и за Сашу!.. Шукурбек еще. Пошли!
— Да нет, ребятки, вы меня не поняли…
А в общем-то, он сам ничего не понял.
Глупо?
Смерть всегда преждевременна. Я никогда не видел, как умирают стопятидесятилетние и даже столетние. Я видел, как умирают те, кому не было и пятидесяти, и сорока, и тридцати, и двадцати. На войне от свежих ран и не на войне от старых. Умирают — не дожив, не долюбив, не дорастив детей, не доработав.
И пусть живущие помнят об этом. Живущие, которые живут потому, что не дожили те…
Мы ехали всю ночь и половину дня, почти не останавливаясь. Мы торопились так, что не успели узнать: сегодня Москва праздновала День Победы.
В Праге еще шли уличные бои. Самые тяжелые — тихие, когда по тебе стреляют из окон и с чердаков, из подвалов и из-за углов. Армия Рыбалко успела. Мы — не успели.
Девятого мая свободная Прага ликовала:
— На здар! На здар! На здар!
Теперь, кажется, всё. Войне конец.
Но опять:
— По машинам!
— Куда? Зачем? Куда?
— В горы!.. Там немцы!..
— Какие немцы, когда все кончилось?
— Нет, еще не кончилось…
Да, еще не все кончилось. Десятого, и одиннадцатого, и двенадцатого, и тринадцатого мая мы прочесывали горные леса. Большая группировка немцев пыталась уйти из Чехословакии к американцам. Бои возникали невзначай и невзначай кончались. Мы транспортировали пленных на сборные пункты.