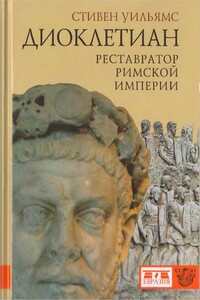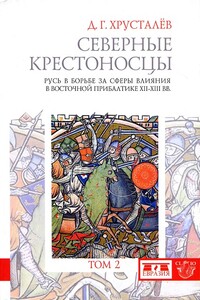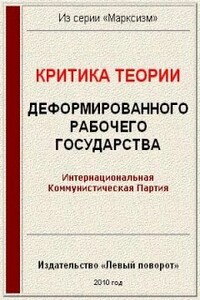Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого - страница 53
Еще в одном фаблио суд оправдывает и другого виллана, пропустив его в рай, хотя лемех его плуга несколько раз и прошелся по бороздам соседского поля, более просторного, чем его собственное, — потому что он по крайней мере кое-как умел прочесть «Аве Мария». Когда же демоны запротестовали, поинтересовавшись, что подумают рыцари, дамы, клирики и священники, отправляющиеся в ад, если вонючий виллан, не знающий ни бельмеса, попадет в рай, ангелы ответили, что богатство и бедность, ученость и невежество значат мало: Бог внемлет простому человеку или простой женщине, взирающим на небеса от всего сердца, и больше ценит их краткую молитву, чем псалмы, которые день напролет распевают клирики при сомнительном дворе; а этот, хоть и жил в деревне, молился Богу с большим чувством, чем монах за аналоем[187].
В этих рассказах заметна некая попытка реабилитации — может быть, правда, не столько виллана в частности, сколько бедняков в целом. И нужно также отметить, что, когда один жонглер составил сборник «вилланских пословиц», — имевший столь большой успех, что различные продолжатели мало-помалу расширили его за счет новых находок в своих краях, — он преподнес его как некий кладезь мудрости. Книга «Вил-ланские пословицы» (Proverbes au vilain) — это набор строф, представляющих собой фрагменты и грани некоей непритязательной жизненной философии, строф, каждую из которых в качестве вывода заканчивает пословица, более или менее подходящая к данному случаю. А в других сборниках, соперничавших с этим, пословицы (часто придуманные самими авторами) в грубой форме выражают мораль, которая хоть и не безосновательна, но отличается цинизмом и противостоит морали «хорошего тона». Например, достойному человеку, который куртуазно заявит: «смелость — цвет всей чести» (fleur de tout honneur), виллан, как человек не охочий до ударов, возразит, что не любит «доблести, от которой помирают в болести» (la valeur dont on meurt à douleur)[188]. Но не всегда речи виллана отмечены такой вульгарностью. Философия первого сборника, который мы упоминали — в действительности философия не виллана, а скорее писателя, считающего нужным держаться ближе к народу, — отличается простодушием, снисходительна к простым людям и в частности к вилланам, по меньшей мере прощая им, пусть не оправдывая, неизбежную пошлость, терпеливую покорность (ведь «угрозы — еще далеко не копья», menaces ne sont mie lances) и умелую скрытность (ведь «кто хорошо затаился, тот и выиграл»); к беднякам, вынужденным хитрить, которые могут рассчитывать только на себя и поэтому тащат в дом сколько смогут, не брезгуя скудными доходами и долго торгуясь. Они никогда не дают в долг, ревностно окружают свой сад забором, никогда не жертвуют собой, даже ради своих, и держат свою семью в ежовых рукавицах, потому что не желают попадать к ней в рабство.
Придется долго ждать, самое меньшее до XIV века, чтобы обнаружить одно из тех редких выступлений в защиту виллана, представляющее собой не просто призыв к милосердию, но реабилитацию и предложение судить по справедливости. Автор одного из таких сочинений, бюргер[189], не боится писать, что знать, то есть рыцари и оруженосцы, — не более чем хищные птицы, живущие за счет добычи. Людям, говорящим «мой виллан» так же легко, как «моя вещь», он предрекает разом и мстительный гнев народа, и справедливое возмездие со стороны Провидения — ибо, говорит он, с теми, кто живет при дворах королей и служат им ближайшими советниками, после смерти обойдутся как с любимцами государей — соколами, на которых они похожи и чей трупик бросают на гноище; вот и они в конечном счете попадут на адское гноище, тогда как виллан, которого все вокруг высмеивают и освистывают, будет со смиренными вознесен к престолу Всевышнего. В подобных речах уже слышится интонация, предвещающая новую эру. Но тот, кто это пишет, далеко не спокоен. Как все-таки обескураживают эти бедняки, которым он всей душой желал бы добра! Ах, они просты, и вкусы их не больно изысканны! Но главное — как понять, что они терпят свое рабство, что не видно вспышек недовольства? Более того — как понять их неисправимый пиетет к господам, которые их эксплуатируют, глумятся над ними и которых они все равно неизменно встречают смиренным «монсеньор»?