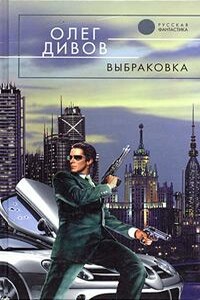Апокавк хотел было отговориться: к подобному разговору надо готовиться, а он не готов.
Но скоро передумал. Красота женщины поразила его. Патрикий видел ее дважды в хоромах стратига, но не вот так, в шаге от себя, а глаза его, глаза книжника и дознавателя, уже не так хорошо доносят до него совершенство мира Божьего. Она… она как пиния, стройна и кудрява, тело ее соразмерно статуям, дошедшим до наших дней от благородной афинской древности. На лице лежит робость и терпение, от уст, кажется, отлетает аромат благоуханных смол.
«Как можно не полюбить такую?»
И тут у Апокавка на миг пресеклось дыхание.
«Вот оно!»
– Владыко, истинно ли говорил, что аколуф любит свою жену любовью великой, всесветной?
– Уж точно никого он не любит, токмо жену да головорезов своих. А без нее и всего света не увидит, и даже головорезов позабудет.
«Но в таком случае, что подсказывает нам логика? Никогда не подвергнет Рамон смертельному риску свою возлюбленную супругу, вывозя отреченную книгу вместе с нею, на одном корабле. Нет, любовь ему не позволит. Остаются два человека, а если хорошенько подумать, то и вовсе один».
– Сейчас посмотрим, владыко, дает ли хорошее образование такие преимущества, какие ему приписывают… Толмачить, если я окажусь прав, тебе не понадобится.
И патрикий, весело улыбаясь, сказал Марии:
– Ес сирум ем кез, сирели[1].
Женщина покачала головой с недоуменным видом.
Тогда Апокавк произнес:
– Ti amo, сага mia[2].
Навстречу ему выпорхнула привычная фраза:
– Anch’io…[3]
Не докончив, таинка в ужасе заперла рот ладонями. Кажется, она бы и язык себе вырвала, если бы это каким-то чудом помогло не отправить в полет тех слов, которые только что прозвучали.
Да хоть бы она ничего не сказала, улыбка, на миг осветившая ее лицо, выдала Марию с головой.
Она мигом выскочила из митрополичьей палаты, до слуха Апокавка донеслись шлепки голых ее стоп по ступенькам, дощатый пол скрипнул под ногами беглянки, потом долетел чей-то возглас – кого там Мария оттолкнула с пути?
Патрикий в изумлении помотал головой: «До чего быстра! Не угонишься».
Герман поглядел на него со снисхождением:
– Что, чадо, уразумел наконец-то!
«А ты как будто с самого начала знал?»
– Ты же, владыко, обо всех подозреваемых сказал, что не могли они совершить злодейства, ибо добрые люди и скверно думать о них – негоже?
Митрополит улыбнулся с хитринкою:
– Не тако. Об одном сказал: «Како не устрашусь думать про него, что вор? Не желаю думать такового». Я, я, чадо, не желаю. А тебе – отчего бы не подумать?
– Почему же не подсказал мне, владыко?
– Я все, тебе надобное, сказал. Ум твой излиху тороплив…
«Вот лукавый старик! Как бы то ни было, а следствие закончено. Надо идти к стратигу. Нет, надо бежать к стратигу!»
– Сходи, сходи, чадо, к воеводе, порадуй его, что можно Ховру-то отпустить…
– …давно ль знал?
Герман поиграл бровями, мол, а важно ль?
– Все заслуги, князь, за гостем нашим, из самой Москвы за тридевять земель к нам, грешным, добравшимся. Его и удоволь.
Глеб Белозерский посмотрел на Апокавка угрюмо. По лицу его грек понял: едва сдерживается, чтобы не накричать. Чтит гостя, чтит того, кем он послан, и только поэтому не дает себе воли.
«Но за что? Дело-то завершено, сейчас бы генуэзца задержать да книгу изъять. Невелика работа, однако с нею надо бы поторопиться. Неужто сей малый долг тяготит стратига?»
– Удоволю, владыко, удоволю… – И, повернувшись к самому Апокавку:
– Не гневайся, гостюшка, что удоволю половинно. Авось, прочее тебе на Москве отсыпят. Я… пожалуй, денег тебе дам, ходячего серебра. О позапрошлом годе у нас тут двор монетный открылся. Воскресенский монетный двор… да.
Наместник замолчал. Герман глядел на него с удивлением. Что за предмет для беседы меж главою фемы и думным дворянином государевым – двор денежный? К чему это?
Апокавк недоумевал не менее митрополита. Князь наконец вновь разомкнул уста:
– Так вот, денежные наши умельцы чеканят милиарисии да кератии на старый московский выдел. На лицевой стороне, по вашему, греческому обычаю, – государь в царском венце, с державою в одной руке, с лабарумом – в другой. На оборотной же, по нашему обычаю, – ездец московский с копьецом, да вокруг него сказано впросте: «Деньга московская». Добрый выдел, все на месте. И нет на нем нелепых новин нынешних, никто не мудрует, дурного слова «Орнистотелес» на деньгу не наносит. Зато как только глупец, вроде твоего лазутчика, светлейший патрикий, принимается где не следует и при ком не надо расплачиваться своими орнистохренами, ушлые людишки сей же час шильцом-то его норовят подколоть, а потом рот новым московским серебрецом, в наших краях доселе невиданном, набить так, чтоб разом наелся досыти. Так пожалую тебе, господин мой патрикий, тугой мешочек нашего простого серебра воскресенского… на память!