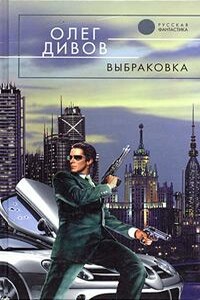Нет, Всеволод – не эллин…
Апокавк был счастлив, когда ратник звонко вскрикнул… и когда в собственной его голове выстрелила бомбарда… он все еще был счастлив, ведь Хроника оставалась при нем!
И даже под утро, крепко встряхиваемый келейником Германа, щекой вбирая в себя холод грязной лужи, думный дворянин Феодор Апокавк оставался счастливым…
Почему такая боль в макушке? А Хроника… Хроника… Вот сумка… где Хроника?!
Хроники нет. Ратник убит, в нем две ножевых раны. Нотарий едва жив, и в нем тоже две ножевых раны, но лезвийце, – короткое и тонкое, как у шила, – до сердца не дошло. Чуть-чуть не дошло.
Только тут счастье покинуло Апокавка.
Господи! Господи! За что Ты оставил меня?
…Дожидаемся князя. Ох, чадо, чадо неразумное! Отчего страшишься? Бог управит дела твои, как Ему благоугодно.
Что же мечешься ты? Что суетишься?
Зачем спрашиваешь поминутно, кто мог похитить? Неужто не понимаешь: кто дурной человек, тот и мог, вот и весь сказ. Дурного человека ищи, чего ж еще? Тут же просто, яко в загадочке детской: кто летом цветет, зимой греет, настанет весна – потечет слеза. Не разумеешь? Береза это. У страха глаза велики, уж больно труси́т тебя. Ты прямо ума лишился, хотя ум в тебе многоочитый, яко хвост у птицы-павлина.
Так… так… Уже хорошо! Сам сообразил простое: кто нашу мирную беседу подслушал, тот и вор. Вот бы отдал ныне воришка книгу, простили бы его, да и делу конец…
Вот уже ты, чадо тараруйное, счет вести начинаешь, ох, ум твой проснулся, в дом свой вернулся, да больно легок он, истинно греческий поворотливый ум без дна, зато с парусом, от ветров, стало быть, всюду гоняемый. Ветрист ум твой…
Вот пальцы загибаешь… Князь вчера был… Был, как ему не быть, но он – истинный слуга государев, весь в деле, весь в службе, Богу раб неложный, царю – опора. К чему порочить ему Царство, таковую хронику на зло повернув? Отложиться от Царства задумал? Пустое. Разве не рек я тебе: Богу он раб неложный, вера на таковое дурно его не пустит. Сам его исповедую, сотониных посулов в нем не вижу.
И аколуф был, верно. Да, мне он претыкатель, спорщик, по вся дни норовит сгрубить. Но тако жену свою любит, что большей любви к супруге во всем свете не видано. А кто на великую любовь способен, тот великого злодейства не совершит. Нет, нет, и думать негоже про сию псину бестолковую, но храбрую, что будто бы хозяина цапнуть норовит.
Великий друнгарий Крестофор? И он был тогды. В латинстве погряз, умышляет на веру нашу? Иное скажу: вот кто истинный мудрец, и от мудрости своей печален, яко в Священном Писании сказано. Великий человек! Вот кто умом средь нас глубок, и сей глубиною всех нас, грешных, превосходит! Како не устрашусь думать про него, что вор? Не желаю думать такового.
Ховра? Был, был… Стратигу враг, зол сын неприязнен? О-ох, душе моя, отойди от гнева! Неужто не видишь: друг он князю закадычный, во всем соперник, ибо нрав в нем кипятливый, но друг подлинный, а потому лиха против власти стратижьей не учинит. Добрый человек, благомысленный, хоть и воинского роду.
Кто ж книгу покрал? Да я все тебе сказал, чадо… Чего тут не понять?
Князю что в доклад от меня пошло? Книга важная украдена чьим-то злоумышлением, ничего иного не говорил: что за книга да какой в ней смысл упрятан. Или, вернее, бессмыслие… Вот и сам князюшка к нам идет, сейчас рассудит. Вонмем!
– Думному дворянину, патрикию Царства Феодору Апокавку даю власть расследовать дело допряма. Даю такоже людей, сколько понадобится, да право расспросные речи вести и записывать. Если же приведет Господь, то и пыточные речи… Всем велю помогать ему, как мне самому. Владыко, и ты, если понадобится, пособи. Теперь ступай, патрикий, ищи свою потерю.
– Нет, не тако… – покачал головой Герман. – Начнем с молебствия об устроении дел.
Вот, гляди, и князь согласен, что молебствие полезнее будет пропеть допрежь всякой мирской суеты… Оно вообще любой суеты полезнее.