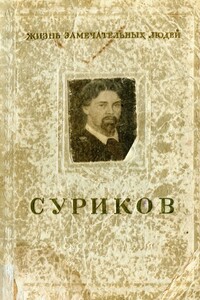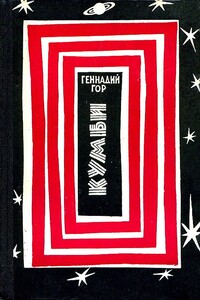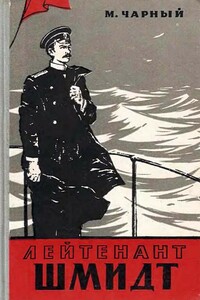Старик Христофор изменился. Часто стал ходить в город. Раньше для него не существовала почта. Кто мог написать тунгусу? Теперь за письмами он шел шестьдесят километров. Спрашивал про войну и был разговорчив. Письма приходили редко. Он клал их за пазуху и нес к нам читать. Мой дед читал ему эти письма. Он читал их с еврейским акцентом, перевирая слова, делая смешные ударения. Я не всегда понимал эти письма. Продиктованные тунгусом, написанные полуграмотным русским солдатом, прочитанные евреем, это были очень трудные письма. Но старик Христофор их понимал. У деда был бодрый, громкий голос, он весело смеялся, читая письма. И Христофор тоже смеялся. Тунгусы подробно описывали большие города, которые они проезжали, много удивлялись. И, смешно признаться, я долго представлял эти города по описанию тунгусов. Но в письмах были такие места, которые дед читал почему-то тихо, и старик Христофор долго и тихо говорил с моим дедом по поводу этих мест письма. Тунгус был удивлен — сыновей его, так же как и других тунгусов, не отправили на позиции: где-то возле Минска их задержали и заставили рыть окопы и строить укрепления.
— Это к лучшему, — говорил дед, но в голосе его была тревога.
Мой дед не умел утешать. Христофору нельзя было сказать правду. Большинство тунгусов и бурят умирало от скоротечной чахотки где-то возле Минска, на чужой земле.
Я помню и последнее письмо, написанное чужой, казенной рукой и прочитанное чужим человеком, волостным писарем (деда моего в те дни не было дома).
Старик Христофор его спрятал и ушел. Несколько дней о нем не было слышно. Он собрал все, что у него было, и продал. И, увидев, что денег у него мало, взять было больше не у кого, он пришел к купцу.
Это было вечером. Соколов уже закрывал свою лавку. Он остановился, держа в одной руке замок, в другой — ключ.
— Что скажешь, тунгус? — спросил он, и сердце у него забилось, застучало от чего-то неожиданного и близкого, и он обрадовался и испугался чего-то и тяжело сел на крыльцо.
— Ничего не скажу, — сказал Христофор и, слегка толкнув его, прошел прямо в лавку.
Купец поднялся и прошел за ним. И в лавке ему показалось все другим, и он увидел, что у него много товара, несмотря на войну, и он услышал чей-то голос. Пела дочь. И он подумал, что у нее хороший, чистый голос. «В мать», — подумал он.
И все же, давая деньги Христофору, он торопился, путался в счете, сердился на себя. Это было с ним в первый раз. Он все боялся, что Христофор передумает. Но Христофор не передумал, деньги взял, и денег этих было много, но он их не считал, а, небрежно свернув их, как бумагу, положил в кожаный кисет, где лежал табак. И, несмотря на это, у купца было радостное чувство, точно он их не отдавал, а получал. Но радость его была странной, больной, она щемила его сердце. Христофор казался хладнокровным и брал независимо, как будто не брал, а давал. Взяв деньги, он попросил, чтоб купец написал за него долговую расписку, так как он сам писать не умел.
Но купец улыбнулся и сказал, что расписка ему не нужна. Христофору он верит. Но на Христофора это не произвело никакого впечатления. Он рассмеялся и сказал:
— А я бы на твоем месте взял. Мало ли что со мной случится. Еду далеко.
Купец в словах этих почувствовал превосходство и прошептал:
— Обидел ты меня, тунгус.
И когда Христофор ушел, купец уже не испытывал радости и удовлетворения, лавка казалась ему по-прежнему душной и унылой, и он крикнул дочери, чтоб она, стерва, перестала реветь. И он почему-то подумал, что тунгус непременно погибнет в дороге, нарочно не вернет долг и что не он увидит унижение тунгуса, а тунгус посмеется над ним.
Дни шли. Все ждали возвращения Христофора, и нетерпеливее всех Соколов.
Христофор ездил долго. Приехал он неузнаваемый, постаревший и больной. Сыновей он не нашел. О виденных людях и городах он рассказывать не мог или не хотел.
Соколов пошел взглянуть на старика. Но это не принесло ему удовлетворения. Старик сказал ему:
— А долг мой, купец, я тебе отдам.
И больше ничего не сказал.
Старик вернулся к себе в тайгу, но тайга показалась ему другой, то ли оттого, что видел он много мест и разных городов, то ли оттого, что не было с ним и никогда не будет его сыновей. Деревья казались ему не такими большими, как раньше. Вместо гор и рек, живых и прекрасных, видел он теперь часто мертвую землю войны, глину и жалкую траву предместий Минска. И он думал, что не тайга изменилась, а он сам постарел, что долг его велик и ему придется поймать не одного соболя, убить не одного изюбра, чтобы расквитаться с купцом.