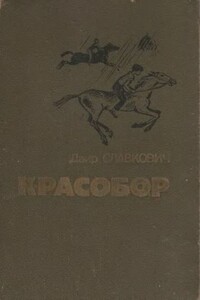Афанасий молчал, отдаваясь каким-то смутным и задушевным мыслям.
— Ну, что, Афа-Нази? Что молчишь? — теребила его Камала. — Хороши Чандрины сказки?
— Ничего не скажешь, замысловатые! — словно спросонья щурился и хмурился Афанасий.
— Проснись, Афа-Нази, проснись! Послушай мою!
И тут же она выдумывала сказку про молодого царя. Он ехал по городу и увидал, как бедный столяр мастерит кровать с необычайно красивой резьбой. Царь купил чудесную кровать, увез ее во дворец. Ночью, когда он лег спать, одна из ножек кровати заговорила и сказала другим:
— Слушайте, сестры! Я пойду дозором по городу. А вы стойте крепко, чтоб царь не упал.
И убежала. Потом вернулась и говорит:
— В царскую туфлю заползла ядовитая змея, нельзя царю надевать эти туфли.
И встала на место. Тогда заговорила вторая ножка:
— Я тоже хочу пройтись по городу и что-нибудь узнать. А вы, сестры, стойте крепко, чтоб царь не упал!
Вернулась и говорит:
— Стена у царского сада хочет обрушиться. Нельзя, чтоб царь там гулял!
И встала на место. Тогда ушла на разведку третья ножка. Она очень долго не возвращалась. Четвертой ножке надоело ждать, и она сказала:
— Уже наступает утро, и я не успею пройтись. Вы, две, стойте крепко и держите кровать, чтоб спящий царь не упал!
И убежала. Две ножки не выдержали тяжести, подкосились. Царь упал и проснулся.
— Неправда! — кричала Чандра. — Выдумываешь, Камала! Царь вовсе не спал, а третья ножка вернулась перед зарей…
— Не вернулась! — упорствовала Калабинга. — Никогда не вернулась! Ты не знаешь, диди. Она ушла. Совсем ушла. Навсегда. За синие моря. Правда, Афа-Нази? И там, за синими морями, она стала девочкой. И ее назвали До-нио. Ду-нио. Правда?
— Истинная правда, — подтверждал Афанасий. — В одной деревне жили брат да сестра, Ваня да Дуня…
Он настолько освоился с языком хинду, что свободно рассказывал сестрам про Ваню и Дуню, про царевну Несмеяну и про все, что только вспоминалось из любимых сказок милой сестренки Дуни.
Когда не хватало сказок, он задумчиво напевал:
— Не велят Дуне за реченьку ходить,
Не велят Дуне молодчика любить,
Ой да расхорошенького,
Душу-Ваню чернобровенького…
И в тепло и негу индийской ночи несся русский деревенский напев, полный протяжной жалобы, безутешной печали.
Иногда запевала и Чандра. Древняя индийская «Песнь весны» тоже пелась протяжно, но в ней не звучало жалобы, не слышно было печали, она дышала радостью, обольщала надеждой на счастье:
Силой времени зацвели молодые ветви,
Голодные пчелы, жужжа, прилетели к цветам.
Подчинись, человек, власти весны!
Вкуси без сомнения радость мечты!
Смейся — ведь юность твоя не прошла!
Как волновала, как звала за собой неотразимая песня! Как блаженно текли мирные вечера в доме Чандаки!
Но сегодняшний вечер — невесть почему — шел неудачно. Беседа плохо налаживалась. Чандака, чем-то подавленный, был сверх меры угрюм и, не откликаясь ни на какие просьбы, не начинал рассказа.
Афанасий и хотел бы спросить своего доброго друга, в чем дело. Но сначала заторопился записать все виденное, пока не забылось. А потом почему-то постеснялся одолевать Чандаку расспросами.
Чандра всегда была скуповата на слова, а сегодня никак не могла разговориться. Даже бойкая Калабинга присмирела. Все-таки она начала что-то такое болтать о том, как поссорились бобок с горошинкой, и вдруг перебила себя:
— Отец! — вскрикнула она так испуганно, что все вздрогнули и вскочили с места. — Отец! Кто это? Зачем? Что им надо?
Девочка раньше всех увидела незваных гостей. Первый из двух вошедших был отвратительно толст и неуклюж, но не это было в нем страшно. Страшно казалось в нем то, что глаза его были тусклы и мертвенны, а широкий рот раскрыт и желтые зубы неподвижно выставлены в неживой, безрадостной и бесчувственной усмешке. У него было такое лицо, что каждый понимал: ты можешь перед ним страдать, скорбеть, корчиться в муках, ты умереть перед ним можешь — и это его не заденет, не шевельнет, не затронет. Из-за его обширного плеча выглянул другой — маленький, прыткий, худенький человечек; этот, наоборот, был крайне весел, суетлив, подвижен; но все равно что-то леденящее сверкало в его пронзительных, как булавки, глазках.