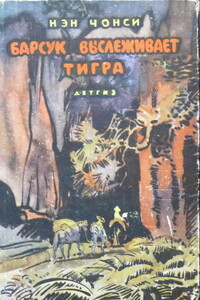— Дозвольте обратиться, господин фельдфебель!
Ставчук удивленно вытаращился на эту пару, несколько раз перевел взгляд с одного на другого, наконец остановился на Серникове и не без подозрения приказал.
— Говори!
— Так что, господин фельдфебель, вы изволили приказывать, ежели в полку большевики, докладать вам, а само наилучше привести до вас.
— Ну?
— Так вот тут, стало быть, до вас и явился большевик.
Козюрин, не раз порывавшийся остановить Серникова, сунулся было к Ставчуку, чтобы доложить все как есть, но был остановлен взглядом. А Ставчук некоторое время снова с недоумением переводил взгляд с одного на другого, словно бы спрашивал: кто же здесь большевик? И Серников, отлично поняв этот безмолвный вопрос, ответил:
— А я и есть большевик. — И даже улыбнулся. — Что дальше?
Ставчук побагровел, потом посинел, полиловел, его полупудовые кулаки сжимались и разжимались от бессильной ярости. С каким удовольствием он заехал бы в рожу этому плюгавому Недомерку, как пинал бы его ногами, измордовал бы, подлеца, и жаловаться не велел бы. Большевик! Но… не те были времена. Полковой комитет, которого фельдфебель боялся и ненавидел, сплошь состоял из большевиков, и старое указание фельдфебеля, отданное по приказу самого полкового командира и до сих пор не забытое этим дураком Козюриным, давно утратило свою силу. Наконец он открыл рот, но не рявкнул, как обычно, а едва выдавил из себя короткое: «Пшел!»
— Слушсь, господин фельдфебель! — совсем уж издевательски отрапортовал Серников, повернулся как положено, налево кругом и, лихо печатая шаг, вышел из каморки.
Он сиял, в душе его все пело: он чувствовал, что навсегда избавился от страха, который испытывал — и к кому! — к самому фельдфебелю Ставчуку, кого когда-то боялся больше офицеров, пуще немецких снарядов. Шагая по булыжному двору казармы, он не без гордости подумал о себе: «Я — большевик». Когда-то, в незапамятные, как теперь ему казалось, времена, случалось, его спрашивали со строгостью, а то и с угрозой: «Ты кто таков?», и он с готовностью отвечал: «Мужик, ваше благородие» или «Солдат, ваше благородие». Теперь он был большевик. Для него это понятие было значительно шире, чем принадлежность к политической партии (в этом он пока слабо разбирался). В понятии «большевик», как ему представлялось, были сосредоточены вообще все лучшие качества человека. Обладай он способностью более четко мыслить, быть может, он сказал бы о себе, что из раба, из «серой скотинки» превратился в человека. Он еще не знал, что человек тогда становится человеком, когда перестает быть рабом. Не понимал он пока еще и другого: бесстрашным стал он потому, что за спиной его были тысячи, а может и больше мужиков, солдат, одним словом людей, которые думали так же, как он, и которые недаром называли себя большевиками. Весело шагая и даже насвистывая, чего, кажется, не случалось с ним с самого детства, он так объяснял сам себе: «Большевики — это, значит, набольшие, это, стало быть, которых много, а раз много, значит, за ними сила».
Пришло, конечно, время, когда он узнал, что есть на свете и меньшевики, и эсеры, и анархисты, и кадеты, и всякая другая тварь, как называл он про себя всех, кто не исповедовал такой простой и единственно приемлемой программы, как мир, хлеб, земля.
Конечно, для диспутов с меньшевиками и эсерами, поднаторевшими в демагогии, бесхитростный Серников не годился, поэтому на митинги полковой комитет его, как правило, и не посылал. А вот поговорить по душам с солдатами никто лучше его не умел, и поэтому Федосеев то и дело направлял Леонтия в роты и батальоны своего полка.
Жизнь в казарме тем временем пошла наперекос. По-прежнему производилась разводка караулов и солдаты исправно несли караульную службу, по-прежнему звучали сигналы на побудку и рота за ротой в положенные минуты выбегали на плац и становились в строй. По-прежнему в батальонных столовых кормили щами да кашей. Но в кухне у котлов дежурный, назначенный полковым комитетом, строго следил, чтобы масла в кашу лили сколько положено. По-прежнему в ротах назначались занятия или разборка оружия, но никто почти на эти занятия не ходил. По вечерам столовые превращались в своеобразные солдатские клубы, куда господа офицеры и даже унтера не решались заглядывать — боже упаси — и где спорили до хрипоты, до лая, читали вслух газетки и письма, наяривали на гармошке. Днем, в спальнях, от нечего делать заваливались спать, чинили бельишко, писали письма, баловались чайком со своим сахарком, если имели возможность купить его за углом у спекулянток. Спекулянток этих, похожих друг на друга своими вкрадчиво-наглыми манерами, Серников ненавидел до дрожи. Случалось ему видеть, как у такой вот спекулянтки гладкий господин в коротком пальтеце на шелку, в котелке, покупал не грудку наколотого мелко сахара, а целую сахарную голову в синей обертке, расплачиваясь за нее не аршинами керенок, а старыми, получившими название «николаевских», деньгами. И все это происходило не как-нибудь украдкой, а днем, на виду у всех, и с противоположной стороны улицы за торгом следили проваленными глазами бабы, с ночи жавшиеся в очередях у булочных и лавок.