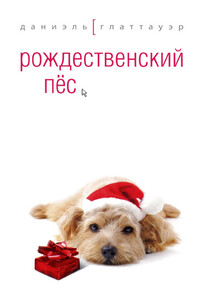— Когда вы в последний раз видели Рольфа? — обратилась Штелльмайер к свидетельнице.
— Примерно за год до его смерти.
Я вздохнул с облегчением и только теперь посмотрел на нее. Она напомнила мне фотографию Рольфа в газете.
— В последнее время у него стало совсем плохо со здоровьем, — заметила девушка.
Я надеялся, что ее слова они пропустят мимо ушей. Так и вышло.
— Рассказывал ли он вам что-нибудь о своих друзьях?
— Нет, об этом мы обычно не говорили. Я знала только, что все его друзья значительно моложе его.
Я кивнул в знак того, что мне известно, каким исключением я являлся.
— Упоминал ли он когда-нибудь имена Джима, Рона и Бориса?
— Нет, впервые о них слышу, — удивилась девушка.
— А об известном журналисте Яне Хайгерере ничего не говорил?
Меня передергивало, когда она называла меня журналистом.
— Нет, но, как я уже сказала, в последний раз мы виделись за год до его смерти.
— Есть ли еще вопросы к свидетельнице?
Реле поднял руку.
— Вы знаете, как погиб ваш двоюродный брат?
— Его застрелили.
— Почему вы говорите об этом так равнодушно, ведь вы любили его! — возмутился прокурор.
— Да, я его любила, поэтому мне больно, что его нет с нами, но то, какой смертью он умер, здесь ни при чем.
— Не понимаю, — пробурчал Реле, слишком тихо, чтобы это можно было воспринять как вопрос. — У меня все, — объявил он.
Мысленно я уже поздравлял его с победой.
Допрос кузины Лентца, похоже, закончился. Я закрыл глаза, надеясь услышать от Штелльмайер долгожданное «спасибо, вы свободны», хотя прекрасно знал, чей голос сейчас прозвучит.
— Разрешите? — поднял руку студент в никелированных очках.
Кто мог ему запретить?
— Почему вы не виделись со своим кузеном целый год?
— Он не хотел, — ответила свидетельница. — Рольф прекратил общаться со мной.
— Вы поссорились?
— Нет, — покачала головой девушка. — Рольф стал ужасно выглядеть после болезни и заперся в четырех стенах. Он никого не пускал к себе, кроме врача.
Публика зашумела.
— Что же произошло? — поинтересовался студент.
По американским законам подсудимый имеет право давать присяжному отвод. Меня судили явно не в той стране.
— Он был ВИЧ-инфицирован, и болезнь успела зайти далеко.
Эти слова были подобны вспышке молнии. Почти одновременно грянул гром, и разразилась гроза. К горлу подступила тошнота.
Аннелизе Штелльмайер словно проснулась. Теперь она ожесточенно листала материалы моего дела.
— Госпожа свидетельница, подтверждаете ли вы, что говорили правду на допросах в полиции и у следователя? — спросила она.
— Разумеется, — кивнула девушка.
— Но ведь вы ни словом нигде не помянули о тяжелой болезни Рольфа.
— В самом деле? — удивилась Мария Лентц. — Вероятно, они просто не интересовались этим.
Она заметно нервничала.
— Но о таких важных проблемах надо сообщать независимо от того, спрашивают вас или нет.
— Я исходила из того, что об этом знают все. Его приятелям было известно, что Рольф долго не проживет. Лишь от его матери это скрывали.
— Может ли его врач подтвердить ваши показания, если мы освободим его от необходимости хранить профессиональную тайну?
— Разумеется, — кивнула Мария и протянула бумажку с именем и адресом доктора, будто только и ждала случая вручить ее судье.
— Я могу идти?
Ей разрешили. Слишком поздно.
— Что вы на это скажете, господин Хайгерер? — повернулась ко мне судья после того, как Хельмут Хель пролаял что-то в зал, призывая публику к порядку.
— Я ошарашен не меньше вашего, — ответил я.
Я поклялся, что ничего не знал о болезни.
— Теперь мне многое стало понятно в его поведении, — продолжил я. — Я-то воспринимал приступы головокружения как симптомы абстиненции. — Я сделал долгую театральную паузу. — Вот почему он ни с того ни с сего исчезал на несколько дней, — пробормотал я, словно рассуждая вслух.
Потом закрыл лицо руками и изобразил рыдания. Они оставили меня в покое, поняв, что больше ничего не добьются.
Были и другие свидетели из окружения жертвы. Друзья детства, наркоманы, деятели движения по защите прав гомосексуалистов, несостоявшиеся художники-акционисты или же просто те, кто когда-либо имел какие-нибудь дела с Рольфом: любовники на одну ночь и отморозки всех мастей. Никого из них гибель Лентца особенно не задела, никого не возмутило его убийство. Смерть является логическим продолжением жизни. Это верно для любого, но в случае человека в красной куртке неоспоримость данной мысли особенно бросалась в глаза.