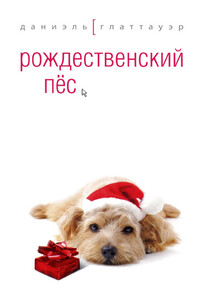Граф явился в ту же ночь, гремя все той же связкой ключей. Этот звук разбудил во мне тяжелые воспоминания о Рождестве и письме с черной каймой. Сейчас Алекс лежит в земле, а я не был даже на ее похоронах. Я подвел ее, как всегда.
Для начала я протянул Графу несколько купюр. Денег у меня здесь оставалось больше, чем я мог растратить.
— Где письмо? — спросил он.
Стоило ему раскрыть рот, как я сообразил, что у него в жилах вместо крови текла водка.
— У меня нет письма, я…
— Завтра в два часа ночи, — недовольно проворчал он.
— Простите, я хотел бы встретиться с ней лично.
— Так, значит, завтра в два ночи? — Он заметно нервничал.
— Да, думаю, это время меня вполне устроит, — улыбнулся я.
Он оставался серьезен, явно не желая любезничать с преступником.
На прощание я вручил ему еще одну купюру. Деньги не имели для меня никакого значения. Он прогремел ключами — и это была его единственная реакция на мои действия.
Меня переполняли эмоции, не имеющие выхода. Я словно воспламенялся изнутри, не имея возможности открыть предохранительный клапан. Когда я представил Делию, целующуюся с романистом Жаном Лега, меня прошиб холодный пот. «Это все картофельный суп», — убеждал я себя, стараясь отвлечься от этих мыслей.
— Вы зациклились, — объяснил тюремный врач, к которому меня потащили, обнаружив лежащим на полу камеры с бледным, как полотно, лицом. — Вам необходимо возобновить пробежки, снова заняться спортом.
Я вспомнил столярную мастерскую, и мне стало плохо.
По крайней мере, они оставили меня в покое. С наступлением темноты мне полегчало. Я подумал о бескровном Графе со связкой ключей, и это разорвало круг неприятных воспоминаний.
В полночь я принял душ, побрился и переоделся в чистое. Адреналин так и играл у меня в жилах. Я подумал, что совесть моя чиста, и за оставшиеся тринадцать недель со мной не должно произойти ничего страшного. Потом я взглянул в зеркало и увидел, как мое лицо искажается в плаче: кривятся губы, сужаются глаза, появляются морщины. Я пригладил челку и принялся считать седые волоски. Насчитав шестьдесят, перестал.
Граф оказался пунктуальным. Он даже прихватил для меня наручники. Мы пробирались по тускло освещенному коридору, пропахшему картофельным супом. Перед камерами стояли железные корыта, словно для животных. Наконец стоны и храп остались позади. Мы достигли следовательского корпуса, от стен которого исходил уже обычный запах штукатурки, и нащупали в темноте нужную дверь.
Сломав мои наручники о дверную коробку, Граф втолкнул меня в кабинет Хелены и запер дверь снаружи. Я слышал, как он удалялся, гремя связкой ключей. В комнате было жарко и совершенно темно. Я вспотел, меня охватил ужас. Глупая шутка? Жестокий розыгрыш, интрига? Я снова подумал о столярной мастерской. Крик о помощи застрял у меня в горле, готовый вырваться наружу. Мне оставалось только открыть рот.
— Я здесь, Ян, — раздался шепот Хелены.
Он доносился со стороны того самого дивана, где когда-то сидела, по особенному скрестив ноги, королева парижской моды. Я направился туда, ощупью пробираясь сквозь темноту. Почувствовал ее запах, когда она обняла меня, и снова оказался в царстве безветренной осени.
— Хорошо, что ты здесь, — сказала она.
Нет, я не слышал этих слов. Я прочитал их у нее в мыслях, потому что сам в тот момент повторял то же самое. Я залез под покрывало и прижался к ней, обхватив руками и ногами. Таким возмутительным образом я утверждал свое право на защищенность. По лбу стекали струи пота. Тишину нарушало лишь тиканье стенных часов.
— Ты продрог, — заметила она.
— Я зациклился, — повторил я слова доктора.
— Тогда, может, тебе следует возобновить пробежки, снова заняться спортом, — посоветовала Хелена.
Я засмеялся и поцеловал ее. Близилась пора прощаться. Теперь я словно падал куда-то и в любой момент ждал удара. Хотел спрятаться от себя самого и глубже кутался в покрывало, прижимаясь к ее телу. Но ужасный звук приближался. Через несколько минут Граф уже гремел ключами у двери. Я должен был уйти. Хелена — остаться.