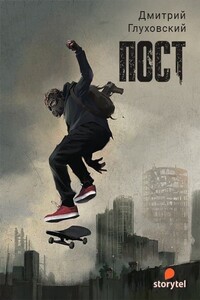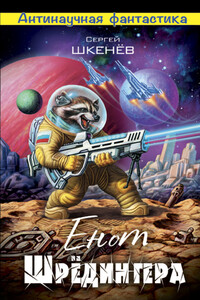Мишель берет карандаш; на газетных полях места не так много осталось, да и грифель уже затупился.
«Вместе с семьями? И детей?»
«Война же была. Всех. Тебе вообще туда зачем?» «Я сама оттуда».
«Давно не была?»
«С гражданки», — угаданным Вериным словом называет она войну. «И чего вы убежали тогда из Москвы?»
«Родители там остались. Меня одну отправили», — Мишель выписывает буквы все медленней, все задумчивей.
Вера хлопает Мишель своей красной ладонью по плечу, ухмыляется.
«А может, тебе тоже в Москву не стоит?»
Мишель отодвигается от нее, сбрасывает руку. Внутри все замирает. Сколько раз спрашивала себя — почему за все эти годы ни отец, ни мать, ни любимые дядя с тетей не пытались ее отыскать, почему просто сбагрили ее бабке и поставили на ней крест? Почему дед не мог на ее расспросы ничего внятного в ответ сказать и не разрешал возвращаться в Москву?
«Там жесткие чистки шли, когда царь взял верх. У отца друзей всю семью к стенке поставили, нас в фуре вывезли под трупами».
Не потому ли, что и у Мишели отец тоже был — враг народа?
И не потому ли он ее в поезд сунул, толком не попрощавшись, что просто пытался ее спасти от расправы? Ее вот уберег, а сам остался… И все. А дальше до него добрались… И до матери. И до всей той семьи, которая осталась в Москве.
Был бы дед жив, можно было бы сейчас пристать к нему, допытаться. Был бы дед жив… Была бы жива бабушка.
И что теперь?
Что ее может в Москве ждать, даже если она до туда доберется, чудом отсюда выкарабкавшись? Схватят?
«Столько лет прошло, — пишет Вере Мишель. — Наверняка уже все забыто!»
«Не знаю, — отвечает Вера. — Отец боялся. Хочешь, спроси сама у него».
И указывает ей на забаррикадированную дверь.
7
Когда топтание прекращается, они выжидают еще, не спешат искушать судьбу. Потом Мишель прикладывается к щели…
Несколько валяются бездыханные. Двое на ногах замерли неподвижно, руки по швам, глаза закрыты. Один из них вроде Лисицын, со спины не разобрать, судя по форменным порткам — торс голый, и босой он; а на другом вовсе одежды нет. Окна выбиты — может быть, через них убегали, — и в битых окнах день.
А в том самом месте, где Юра заслонял ее своей спиной, на полу лежит брошенный его пистолет. Вот туда ей нужно. К пистолету. Патроны он расстрелять не успел, молитва быстрей сработала.
Вместе они начинают сдвигать с места мебель — медленно, осторожно. Лисицын и тот, другой, пока что не шевелятся. Комод царапает пол, скрежещет диван — вибрации по ноге поднимаются. Громко это? Разбудят они их? Мишель приоткрывает дверь только чуть-чуть, выскальзывает наружу… По шатким половицам, которые тоже, наверное, стонут — как в бабушкиной квартире стонал иссохший паркет. Шаг, еще шаг, еще…
Похожий на Лисицына человек стоит тихо, к ней спиной. Кажется, дышит — если бы стоя закоченел, ведь упал бы? Но спит или притворяется? Пистолет от него всего в паре метров.
Мишель перед тем, как метнуться к нему, в последний раз осматривается.
Из кого-то натекло на пол красного, отсвечивает масляно. Этим же и стеклянные изрезы в окне перепачканы. Все, кто стоял вверх тормашками, валяются мертвые с сине-багровыми распухшими головами.
Вера крадется за ней следом. Узнает в одном из распухших — том самом бородатом мужике, который Лисицыну грозил обрезом, — своего кого-то. Зажимает себе рот рукой. Может, и плачет — Мишели не слышно.
Она обходит на цыпочках голого человека… Заглядывает ему в лицо…
Юра Лисицын. Стоит зажмурившись. Лицо у него изодрано ногтями, будто он хотел глаза себе выцарапать.
Второй голый человек тоже ничего не видит — он-то до своих глаз добраться сумел. Мишель, не отводя от Лисицына взгляда ни на секунду, приседает и загребает его пистолет себе. Тут же отбегает, проверяет: половина обоймы еще на месте.
Вот и все.
Она поднимает пистолет на постороннего человека и спускает курок. Тот заваливается кулем. Ствол сразу перескакивает на Юру.
Лисицын от выстрела вздрагивает, но не просыпается.
Вера — от своего мертвого отца — глядит на Мишель мстительно и требовательно: убила нашего, убивай и своего. Но Мишель не хочет стрелять в Юру. А что, если он может еще очнуться? Если еще может выздороветь?