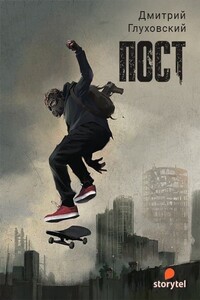Мишель идет открывать ворота. Она опустошила это место, принесла сюда беду. Лисицынский пистолет оттягивает ее рюкзак.
Вера плетется за ней — злость и боевой настрой покинули ее, она готовится к одиночеству. Когда ворота открыты, она ловит Мишель за рукав. Валенком пишет на снегу такими большими буквами, как будто с самолета их должны прочесть: «ПОМОГИ С ОТЦОМ».
Мишель стоит, не хочет отвечать сначала. Машина уже под парами, Лисицын завербован, можно прыгать и мчать в Москву. Как помочь? Хоронить его? Мерзлую землю сейчас долбить? Ну нет.
Тогда Вера сужает глаза, берет Мишель двумя пальцами за подбородок.
— Зачем?!
— Что — зачем?! — та выворачивается.
Вера указывает на свои кровоточащие уши, тычет пальцем в Мишель. Зачем ты это со мной сделала?! Лицо у нее перекошено: на ненависть сил нет, слезы подступают. Мишель собирается возмутиться: да я тебя спасла! А потом думает: а для нее это точно — спасение? Вот, она продырявила ей уши, окей, и теперь эта Вера остается одна в уме на своей станции. Что жестче по жестокости? Сникает.
— Ладно! — отмахивается она.
Москва подождет.
Они пробуют ковырять бурую землю лопатой и ломом, но силы скоро заканчиваются. Даже Лисицын выдыхается — весь себя истратил на затмение. Тогда решают просто навозить тележкой песка из кучи рядом с домом — собирались цемент мешать, класть пристройку. Кладут Вериного отца в неглубокую ямку, которая получилась, и сверху делают бугор из темно-желтого крупного песка. На лицо ему Вера сама насыпает, остальные стесняются. Как-то нелепо и неуверенно крестит этот холмик.
— Откуда это все взялось? Почему тут оказалось? Почему на нас? — спрашивает у Лисицына Мишель.
Тот смотрит исподлобья, невнятно.
Ну, все. Теперь можно Веру оставить тут. Мишель с Лисицыным возвращаются в машину, опять заводятся — выезжают за ворота. Мишель бросает взгляд назад, через дрожащее боковое зеркало.
В нем незнакомая ей и зря только спасенная Вера одна, потерянная, и бурый этот холм с торчащей в нем доской. Выходит на дорогу, делает шаг за грузовиком, потом останавливается.
— Тормози. Тормози! — кричит Мишель.
Он бьет по тормозам.
Мишель распахивает дверь, показывает Вере: сзади, сзади!
Там бегут за машиной. Полуголые-полуодетые грязные люди-насекомые. Вера от них — Лисицын дает задний — Мишель ей руку протягивает — успевает подловить — грузовик дает по газам, только бы Юра опять не расслышал их! — и вперед, уже на ходу хлопая проржавленной дверью — на пустую дорогу, под указатель «Ярославское шоссе, Москва». На сорока километрах в час погоня все еще не отстает — девчонки следят за ней в зеркале; на шестидесяти наконец отрывается.
Лисицын моргает, но ведет. Тоже смотрит на этих в зеркале.
«Мой парень там был», — пишет по испарине на стекле Вера.
Лисицын моргает снова. Потом принимается шарить по карманам. Оборачивается на Мишель и одними губами спрашивает ее неслышно:
— Где мое письмо?
9
Ярославское шоссе где-то разбито, где-то загромождено гнилой техникой, приходится объезжать по обочине. Нелюдей вокруг не видно, но не видно и людей. Россия-Московия населена редко, она за пределами постов и станций, оказывается, почти вся заброшена. Даже в этой куцей разваленной стране, обрубке прежней империи, земли все равно слишком много, чтобы можно было за ней глядеть, и она пылится без человеческого внимания. И гордость берет Мишель за то, что это все ее родное государство бесконечно проезжает мимо нее в окне «ГАЗа», и тоска.
Сейчас они обогнали мутную волну, говорит себе Мишель; надо к Москве впереди нее приплыть, к берегу. Чтобы предупредить людей. Чтобы научить их, как она Веру вот научила. Она хотя бы жива, едет с ними. А дальше — ну, приспособится как-нибудь к новой жизни. Все как-нибудь к новой жизни приспособятся.
Едет она в теплом грузовике, напоминает себе Мишель, а на покрышках везет с собой в Москву чуму. Она косится на Лисицына — сидит рядом с ним. Держит руку в рюкзаке. Вера с краю. Кабину трясет на ухабах. Лисицынская шинель свернута, у Веры на коленях. Папаха под ветровым стеклом, кокардой одноглазо глядит на Юру, бдит. И Мишель бдит.