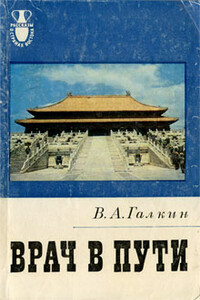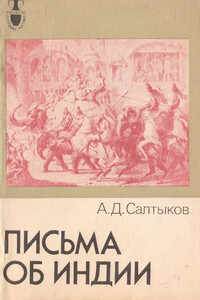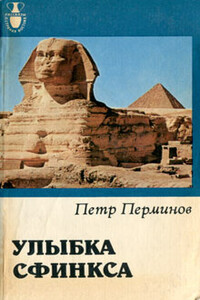Как-то Мельников сказывал Обрескову, что Яблонский мечтает выкупить из полона встреченного им на Ясыр-базаре прекрасную черкешенку. Тогда Обресков лишь усмехнулся. Пленницы с Украйны или Черкесии славились своей красотой. Турки платили за них по две-три тысячи рублей, сумму, равную почти десятилетнему жалованью Яблонского в посольстве. Да разве в деньгах дело! Даже если бы он собрал необходимый выкуп, из этого все равно ничего бы не вышло. По турецким законам христиане не имели права выкупать невольников на Ясыр-базаре. Османским вельможам, погрязшим в роскоши и безделье, самим не хватало рабов.
Однако сейчас, припомнив слова Мельникова, Обресков посмотрел на Яблонского как бы новыми глазами. Ведь чего греха таить, у него самого даже тогда, когда 28 лет назад он впервые приехал в Константинополь, не возникало таких желаний. Он невольно сравнил себя, только что окончившего корпус, с Яблонским и подумал, что оно явно не в его пользу. Новое поколение русских дипломатов и образованнее, и деятельнее, и, к чему лукавить, благороднее в делах и помыслах.
Алексей Михайлович почувствовал желание подбодрить юношу, но не нашел ничего лучшего, как, указав на кожаную сумку, лежавшую на коленях у Яблонского, сказать:
— Смотри, Васильич, бумаги не потеряй. Коли пропадут — не сносить тебе головы.
Яблонский вздрогнул, покрепче обхватил сумку с копиями расшифрованных депеш барона де Тотта, которые Обресков на всякий случай велел взять с собой, и смутился до того, что на бледных щеках его вспыхнули неровные пунцовые пятна.
Но вот и берег. Повинуясь команде Анджело, гребцы разом за-табанили весла, и каик коснулся бортом причала. Алексей Михайлович, опершись на руку проворного кормчего, грузно шагнул на пристань. Постоял немного, привыкая к вновь обретенной надежности берега, поправил на груди пурпурную Анненковскую ленту.
На берегу уже ржали и выгибали шеи шесть лучших посольских коней — четыре под французскими седлами и два под пышной турецкой сбруей, с султанами на голове. С неожиданной сноровкой Обресков бросил свое грузное тело в седло и взял шенкеля. Конь под ним заиграл, поднимая копытами пыль.
Место слева от Алексея Михайловича занял присланный из сераля мекмендар из янычарской гвардии. Свита посла была немногочисленной: Пиний и Мельников, за ними драгоманы да Яблонский с другим студентом, Лашкаревым, все верхом на лошадях. Впереди четверка киевских рейтар из посольской охраны во главе с вахмистром Остапом Ренчкеевым и несколько пеших янычар. За свитскими в две шпалеры выстроился служилый люд рангом пониже — от толмачей до лакеев в парадных ливреях. Им лошадей не положено, и пешком дойдут, не господа.
Гнусаво запела флейта, захлопал глухой турецкий барабан — и процессия, вздымая пыль, двинулась в сторону мечети Енигами, за которой вверх по крутому косогору убегал лабиринт крутых улочек, ведущих к сералю.
Насколько прекрасен вид Константинополя с моря, настолько неприглядны его узкие улочки вблизи: глинобитные мазанки, повернуты в сторону улицы глухими стенами, вонь, пыль и запустение. Исключение составили лишь мечети и общественные здания, на постройку которых денег не жалели. Только ближе к сералю стали появляться хрупкие, ажурные киоски, мраморные фонтаны, притаившиеся в тени густых лип. Справа осталась площадь ат-Мейдан, в центре которой возвышались испещренный иероглифами обелиск, привезенный из далекого Луксора, и «змеиная» колонна, отлитая из чистого железа в греческих городах в честь одной из бесчисленных побед городов-полисов Древней Эллады.
Поднялись крутой улочкой, по одну сторону которой высилась построенная еще в византийские времена стена, окружающая сераль, а по другую — массивный апсид св. Софии, увитый плющом до узких стрельчатых окон под грузными куполами, и медленно подъехали к выложенным из тесаного камня порталам Баба-Хамаюна внешних ворот султанского сераля.
Тяжелые дубовые створки ворот были распахнуты настежь — с раннего утра и до вечерней молитвы внешний двор сераля открыт для правоверных. Однако толпа любопытных, привлеченных громкой музыкой и диковинным зрелищем, осталась снаружи, возле увенчанного маленькими турецкими куполами киоска султана Ахмета III, опасливо поглядывая на кривые ятаганы замерших у ворот бостанджи — стражей дворцовой охраны.