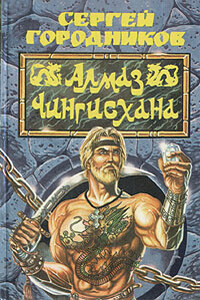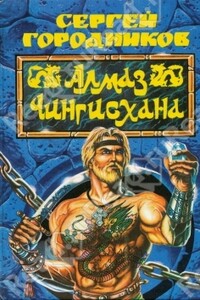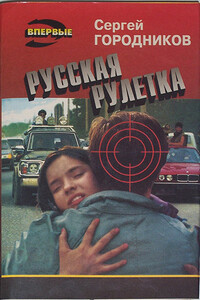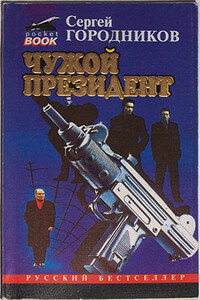– Да, царь, я здесь, – ответил мудрец незамедлительно и просто.
– Калан, ты помнишь последний вопрос, что я задал гимнософистам?
– До каких пор следует жить человеку? – Спокойная речь Калана была следствием душевной простоты и философского достоинства. – Я помню. Вопрос, достойный ученика Аристотеля. – И он пустился ни то в объяснения, ни то в рассуждения. – Молва об этом мудреце докатилась до Индии, заставило меня покинуть родину, о которой я очень тоскую. Я пришёл сюда встретиться с его учеником и сделать вывод об учителе. Приходится признать, в Индии действительно не было и нет подобного мудреца.
– Если воспоминания более живы для нас, чем жизнь, то живём ли мы? – Не слушая Калана, ровно пробормотал царь. – И сколько же стоит такая жалкая жизнь?
Калан с проницательным вниманием посмотрел в затылок Александра.
– Добраться обратно у меня не хватит сил, – произнёс он тихо. – Но предчувствую, что сегодня я смогу выбрить голову и лечь в большой костёр, который сам соберу и подожгу. Ты спросишь: зачем? Чтобы воплотиться в новом существе, так оказаться на родине.
Александр прошептал на тяжком выдохе:
– Его ответ был лучшим... – Он словно позабыл, что находится в помещении не один, что возле прохода застыл Калан. С горечью проговорил: – Что слава?! Мнение толпы... Любой раб свободнее, чем я... – Затем невнятно прошептал всплывшему в памяти впечатлению из прошлого: – Да, да, мудрец Диоген...
Солнечный летний день выдался очень жарким, но вблизи моря дул лёгкий ветерок и духоты не ощущалось. По прибрежным холмам спешили восемь опытных всадников, в праздничных, но не богатых и не броских одеждах. Только пурпурный шерстяной потник скачущего первым коня с белокурым не то юношей, не то молодым человеком в седле, был обшит золотыми нитями. Всадники свернули в объезд холма, и ласковое синее море исчезло у них из виду. Потом появилось вновь, и тропа вывела их к скалистому обрывистому спуску.
Александр натянул поводья, заставил Буцефала приостановиться, закрутиться на месте, и осмотрел близлежащую местность. Дальше тропинка раздваивалась. Одно её продолжение изгибалось вдоль крутого склона, другое, еле заметное, исчезало за краем гребня, обрывалось к морю. Спутники догнали царя, как он спрыгивали и слезали на землю, вели себя непринуждённо, друзьями и единомышленниками. Трое из них сразу же скинули плащи и без лишних слов последовали за Александром. Юный и подвижный Клит, за ним зрелый и серьёзный, но с живым блеском в глубоко посаженных глазах Парменион и последним нагнал товарищей горбоносый Филот. Остальные спутники остались при лошадях, весело, беспечно смеялись шуткам Птолемея.
У чахлого куста Филот подхватил спрятанную кем-то, похожую на рогатину палку, – ею было удобно отбрасывать змей, попадись ядовитые гады на их пути, – после чего прыгнул с гребня на крутой склон, по которому к морю пробирались, осторожно и перебежками, его сверстники и отец. Хватаясь за кустарники, они спустились на каменистый берег и огляделись. Клит обратил внимание на выступ скалы, за которым угадывался небольшой заливчик.
– Готов поспорить, что наш отшельник скрывается именно там, – насмешливо заметил он.
– Я с тобой и спорить не буду, – весело согласился Александр. – Трудно найти лучшее убежище тому, кого разочаровала человеческая глупость.
Вскоре они обогнули выступ и действительно обнаружили удобный небольшой залив с жёлто-песчаным пляжем в его глубине, который оказался подолом крутого обрыва. Солнце радостными бликами играло на водной чешуе, завлекая их к дугообразному пляжу, и они не стали сопротивляться настроению умиротворения, которое царило вокруг.
К низкорослому дереву внизу обрыва была, словно пёс на верёвке, привязана старая бочка. На боку вдавленной в песок бочки читалась надпись: "Дом Диогена".
Сам философ лежал возле кромки воды на горячем песке, с раскинутыми в стороны руками и подставив безволосую, узкую грудь палящему солнцу. Он не мог не слышать шороха песка под ступнями непрошенных гостей, но даже не приоткрыл веки, своим видом показывал, что не желает никого знать, не хочет ни с кем общаться. Александр обошёл дерево, и его тень накрыла высоколобую голову философа. Счастливое умиротворение постепенно сбежало с лица Диогена, однако он не шевельнулся, весь во власти ни то размышлений, ни то неги и лени.