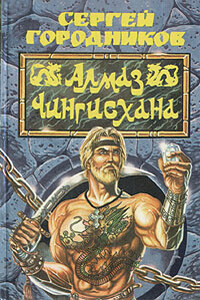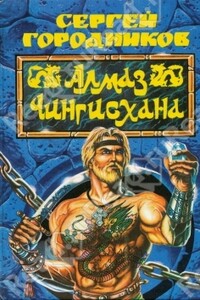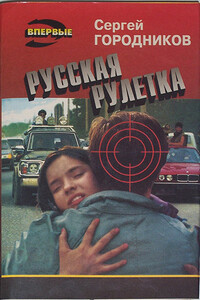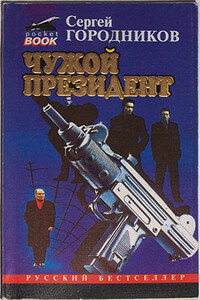Парменион помрачнел, отхлебнул вина из чащи, поморщился. Затем еле слышно вымолвил:
– Он велик, как никто из тех, кого я знал и знаю.
...Серебристый серп луны не в силах был рассеять ночной мглы. Лишь от неверного огня факела, который нёс угрюмый раб, высвечивались песчаная дорожка сада и ухоженные кусты с цветами, а за ними ближайшие плодовые деревья. Раб подстраивался под шаги Пармениона и Филота: они ступали перед ним в богатых одеяниях персидских вельмож, сановных владельцев плодородных и обширных сатрапий. Бесшумный, как призрак, он освещал им дорожку, которая вела к приземистым очертаниям крыла вытянутого у проточного озерца старого дворца. Филот округлился лицом и телом и уже мало напоминал того молодого мужчину, что участвовал в первых сражениях Александра. Парменион изменился меньше – многолетняя привычка к каждодневным военным упражнениям и играм позволяла ему сохранять тигриную упругость ног и силу в руках.
– Отец, – настаивал Филот, – мы же богаче других. А если объединимся, станем богаче всех. Мы лучшие военачальники, нам он обязан своими завоеваниями. Но, как рабы, мы довольствуемся только тенью его славы.
Парменион хранил упорное безмолвие. Смолк и Филот. Они вышли к лужайке посреди сада, где их поджидал верный телохранитель Пармениона с двумя вороными конями под сёдлами. Парменион подошёл к своему скакуну, забрал поводья у телохранителя. Когда телохранитель по привычке без распоряжения уселся на другого коня и отъехал к тропинке под чёрную крону дерева, он всем телом обернулся к сыну и с тоской зрелого мужа, который не может оградить близкого ему человека от несчастья, негромко предупредил:
– У меня было три сына. Двое погибли в сражениях. Остался ты. Спустись на землю.
– Меня любит армия, – возразил Филот.
Парменион поднялся в стремени и опустился в седло. На коне к нему вернулась обычная властность. Он наклонился к сыну и потребовал:
– Спустись на землю.
Не желая слушать, что надумает ответить сын, он сильно сжал ногами бока коня, пустив его в лёгкий бег прочь от озерца. Филот какое-то время прислушивался, как удаляются отец и телохранитель, как затихают отзвуки конского топота и шелест потревоженных веток, затем надменно выпрямился и сжал губы.
– Тебе придётся выбирать между мной и им, отец, – холодно бросил он вслед топоту в мрачную темень.
За ближними кустами роз змеёй отполз молодой и безносый раб-негр. Он встал, проскользнул за крыло дворца и заторопился прочь, спеша донести, что услышал.
... Тяжёлый ковёр завешивал, делал невидимой узкую нишу в стене подземной тюрьмы. В нише не удалось бы различить и поднесённой к глазам монеты и, сидя на прохладном каменном уступе, Александр весь обратился в слух, не упускал ни слова, ни звука из происходящего за ковром. Там опять резко вырвался мучительный стон пытаемого мужчины.
Подземный застенок под главным дворцом Дария освещали два вставленных меж камней факела, они потрескивали, слегка чадили, и чад возносился к закопчённому потолку. В дрожащем свете факельного пламени, у стены напротив чёрного ковра на цепях свисал обнажённый Филот. Палач из персов, низколобый, с лохматыми бровями над глубоко посаженными глазками, отнял от его груди раскалённое тавро и сунул в пылающие в жаровне угли. Бледное лицо Филота покрылось склизким потом, ко лбу прилипли сбившиеся русые пряди. На белой, исполосованной ударами плетей груди выделялись два клейма, какими метились самые опасные преступники. Тавро в углях раскалялось, палач готовился заклеймить его в третий раз, на этот раз в лоб. Полтора десятка военачальников, близких друзей македонского царя толпились в тёмном углу, большинство старались не смотреть на Филота. Тот тяжело приподнял голову и затуманенным взором посмотрел на них. На щеках его оставляли следы очередные слёзы, из прокушенной от боли губы к подбородку сползала тёмным червячком полоска крови.
– Передайте царю. Пусть он простит меня, – умоляющим голосом слабо выговорил Филот.
Однако бывшие его друзья и товарищи избегали встречаться с ним взглядами, не отвечали, как если бы у них вырвали языки.