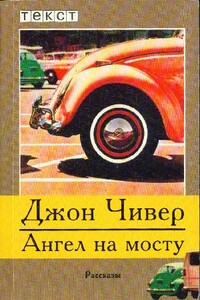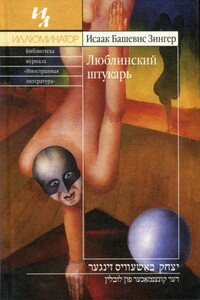Обычно, если мне так отвечают, я ухожу, но тут что-то заставило меня остаться. Оказалось, что она родом из хасидской семьи, дочь крупного варшавского домовладельца, последователя александровского рабби. Дебора, или Дора, была одной из тех хасидских девушек, которые воспитывались в атмосфере почти полной ассимиляции. Она посещала частную женскую гимназию и брала уроки музыки и танцев. В то же время к ней приходила жена рабби обучать ее еврейским молитвам и Закону. До войны у нее было два старших брата — самый старший был уже женат и жил в Бедзине, а младший учился в иешиве. Еще у нее была старшая сестра. Война быстро все разрушила. Отец погиб во время бомбежки, старшего брата застрелили нацисты, младшего призвали в польскую армию, и он тоже погиб где-то, мать умерла от голода и почечной болезни в варшавском гетто, а сестра Итта пропала без вести. У Доры была учительница французского языка, старая дева арийского происхождения, некая Эльжбета Доланская, она и спасла Дору. Как ей это удалось — слишком долгая история. Дора два года просидела в подполе, и учительница кормила ее из своих последних запасов. Святая женщина, но и она погибла во время варшавского восстания. Вот так Всемогущий Господь награждает добрых гоев.
Все это я узнал далеко не сразу, приходилось прямо-таки вытягивать из нее каждое слово. Однажды я сказал ей:
— В Палестине ты встанешь на ноги. Там ты будешь среди друзей.
— Я не могу ехать в Палестину, — ответила она.
— Почему? Куда же тогда?
— Я должна ехать в Куйбышев.
Я своим ушам не поверил. Вообразите себе, каково в те дни из Штеттина было пробираться назад к большевикам в Куйбышев. Сказать, что дорога была опасной, — все равно что ничего не сказать.
— Зачем тебе Куйбышев? — спросил я, и она рассказала мне историю, которая, если бы потом я не увидел всего собственными глазами, вполне могла бы сойти за бред сумасшедшего. Ее сестра Итта на ходу выпрыгнула из поезда, который вез ее в концентрационный лагерь, и по полям и лесам прибрела в Россию. Там она познакомилась с одним евреем, инженером, крупным военным чином. Во время войны этот офицер погиб, и у Итты с горя помутился рассудок. Ее поместили в местную псих-лечебницу. Благодаря невообразимому стечению обстоятельств каким-то чудом Дора узнала, что ее сестра все еще жива. Я спросил ее:
— Чем ты сможешь помочь сестре, если она сумасшедшая? Там она получает хоть какую-то медицинскую помощь. Что ты сможешь сделать для душевнобольной женщины, у которой нет ни денег, ни жилья? Вы обе погибнете.
Она ответила:
— Ты, конечно, прав, но она единственная, кто остался в живых из всей нашей семьи, и я не могу бросить ее в советской психбольнице. Может быть, она поправится, когда меня увидит.
Вообще-то я предпочитаю не вмешиваться в чужие дела. Война научила меня, что помочь никому нельзя. В сущности, все мы ходили тогда по чужим могилам. В тюрьмах и лагерях, когда смотришь смерти в лицо десять раз на дню, постепенно теряешь всякое сострадание. Но когда я услышал, что собирается предпринять эта девушка, я почувствовал такую жалость, какой не испытывал еще ни разу в жизни. И так и сяк я пытался ее отговорить. Я приводил тысячу разных доводов.
Она сказала:
— Я понимаю, что ты прав, но я должна ехать.
— Как ты туда доберешься? — спросил я, и она ответила:
— Если будет нужно, пойду пешком.
Я сказал:
— По-моему, ты такая же ненормальная, как твоя сестра.
Она ответила:
— Наверное, так и есть.
И вот, после всех передряг, ваш покорный слуга пожертвовал возможностью уехать в Израиль, что в то время было моей самой заветной мечтой, и отправился с этой едва знакомой девушкой в Куйбышев. Это было что-то вроде самоубийства. Я понял тогда, что жалость — это проявление любви, и, может быть, высшее. Не буду вам описывать нашу поездку — это была не поездка, а одиссея. Нас дважды задерживали, и только чудо спасло нас от тюрьмы или лагеря. Дора держалась геройски, но я чувствовал, что в этом было больше покорности судьбе, чем храбрости. Да, я забыл вам сказать, что она была девственницей и за всей этой ее подавленностью скрывалась страстная женщина. Я привык к успеху у женщин, но ничего подобного еще не видел. Она прямо-таки вцепилась в меня. Это была такая смесь любви и отчаянья, что я даже испугался. Дора была образованна. В погребе, где она пряталась два года, она прочла уйму книг на польском, французском и немецком, но жизненного опыта у нее не было никакого. В своем убежище она познакомилась с христианскими книгами, сочинениями госпожи Блаватской и даже с трудами по философии и оккультизму, доставшимися Доланской от тетки. Время от времени она начинала лепетать что-то об Иисусе и привидениях, но такие разговоры не для меня, хотя после Катастрофы я и сам сделался мистиком, ну или, по крайней мере, фаталистом. Непонятно как, но все это сочеталось в ней с еврейством, воспринятым в семье.