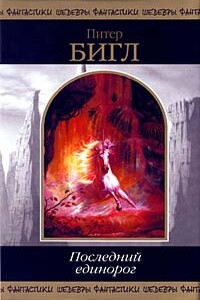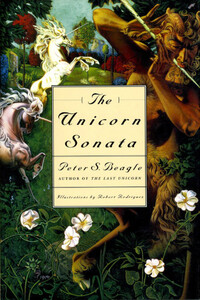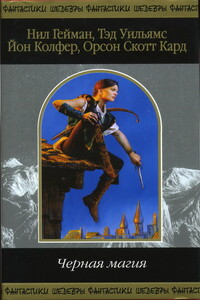Она немного отвернулась от него, и внезапный звездный свет ее плеч придал всей его болтовне о магии привкус песка в горле. Мотыльки, комары и иные насекомые ночи, слишком мелкие, чтобы быть кем-то в частности, слетелись и медленно затанцевали вокруг ее яркого рога, и она не выглядела от этого глупее, зато они становились, славя ее, мудрей и прелестней. Кот Молли вился между ее передними ногами и терся о них.
– Остальные ушли, – сказала она. – Рассеялись по своим лесам, никогда по двое, и люди не заметили их, как будто они так и остались в море. Я тоже вернусь в мой лес, но не знаю, смогу ли я жить в довольстве – там или где-либо еще. Я побыла смертной, и некая часть меня такой и осталась. Я полна слез, стремлений и страха смерти, хоть не могу плакать, ничего не хочу и не могу умереть. Я не похожа теперь на других, ибо не рождался еще единорог, способный сожалеть, а я способна. И сожалею.
Шмендрик закрыл, точно дитя, лицо ладонями, хоть и был он великим магом.
– Я так виноват, так виноват, – прошептал он своим запястьям. – Я совершил злое дело, как Никос с тем, другим единорогом, и с таким же добрым намерением, а отменить его не могу, как не смог и он. Мама Фортуна, король Хаггард и Красный Бык вместе взятые были добрее к тебе, чем я.
Однако она ответила ему мягко, сказав:
– Мой народ возвратился в мир. Никакая печаль не проживет во мне дольше, чем эта радость, – кроме одной, за которую я также благодарна тебе. Прощай, добрый волшебник. Я постараюсь вернуться домой.
Она покинула Шмендрика, не издав более ни звука, однако он тут же проснулся. И услышал тоскливый мяв кривоухого кота. А повернув голову, увидел лунный свет, дрожавший в открытых глазах Короля Лира и Молли Грю. Все трое без сна пролежали до утра, и ни один не сказал ни слова.
На заре Король Лир оседлал коня. Прежде чем сесть в седло, он сказал Шмендрику и Молли:
– Я буду рад, если вы когда-нибудь заглянете ко мне.
Оба заверили его, что заглянут, однако Король еще постоял с ними, покручивая пальцами поводья.
– Она приснилась мне этой ночью, – наконец сказал он.
Молли вскричала:
– И мне!
А Шмендрик открыл было рот, но снова закрыл.
Король Лир хрипло попросил:
– Именем нашей дружбы прошу: откройте мне то, что она вам сказала.
Он стиснул их руки, и пожатие его было холодным и мучительным.
Шмендрик слабо улыбнулся ему:
– Мой господин, я редко помню свои сны. Сдается мне, что мы важно обсуждали какие-то глупости – возвышенный вздор, пустой и эфемерный…
Король отпустил его руку и обратил наполовину безумный взгляд к Молли Грю.
– Я никогда этого не открою, – сказала та, не без испуга, но странно покраснев. – Я все помню, но никогда никому не скажу, хоть убейте – даже вам, мой господин.
Говоря это, она смотрела не на короля, а на Шмендрика.
Лир позволил и ее руке упасть, и вскочил на коня с таким неистовством, что тот встал на дыбы, перечеркнув восходившее солнце, и затрубил, как олень. Однако Лир удержался в седле, гневно глядя на Молли и Шмендрика, лицо его было столь мрачным, осунувшимся и заострившимся, что могло показаться, будто он провел на троне время большее, чем Хаггард до него.
– Мне она ничего не сказала, – прошептал он. – Понимаете? Ничего не сказала, совсем.
Но тут лицо его смягчилось, как это случалось даже с Хаггардом, когда он видел в море единорогов. В этот миг Лир снова стал молодым принцем, любившим посиживать с Молли в судомойне. Он сказал:
– Она смотрела на меня. В моем сне, она смотрела на меня и молчала.
И ускакал, не простившись, а они следили за ним, пока холмы не укрыли его: прямого, печального всадника, который возвращался домой, чтобы стать королем. Наконец Молли сказала:
– Бедный юноша. Бедный Лир.
– Не такая уж и худая ему выпала доля, – ответил маг. – Великим героям необходимы великие горести и испытания, а иначе половина их величия останется не замеченной. Все это – часть волшебной сказки.
Впрочем, в голосе его звучало некоторое сомнение, и он ласково обнял Молли за плечи.
– Любовь к единорогу не может быть злосчастьем, – сказал он. – Напротив, она – огромнейшая удача, хотя заслужить ее труднее всего на свете.