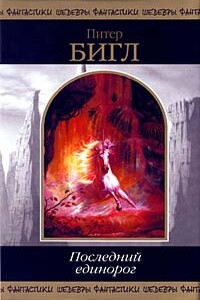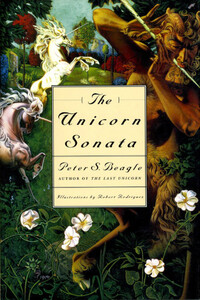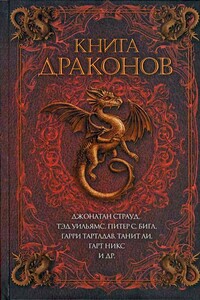А когда Рух взвизгнул: «Воззритесь на Скорый Конец!» – и черные завесы спали, явив бормотавшую в холоде и мраке Элли, единорог ощутила тот же беспомощный страх старения, что обращал зрителей в бегство, хоть и понимала – в клетке сидит всего-навсего Мама Фортуна. И подумала: «Ведьма знает больше, чем знает, что знает».
Ночь наступила быстро, может быть, потому, что гарпия поторопила ее. Солнце потонуло в грязных тучах, как камень в море, и с почти такой же надеждой подняться снова, луны в небе не было и ни одной звезды тоже. Мама Фортуна совершила, скользя, обход клеток. Гарпия при ее приближении не шелохнулась, и это заставило старуху остановиться и долгое время просмотреть на нее.
– Пока еще нет, – наконец пробормотала ведьма. – Все еще нет.
Но в голосе ее прозвучали усталость и сомнение. Она коротко взглянула на единорога, глаза ее были, как шевеление желтизны в сальном сумраке.
– Что же, одним днем больше, – сказала она с квохчущим вздохом и отвернулась.
После ее ухода в Балагане не раздавалось ни звука. Все звери заснули – кроме паучихи, которая продолжала ткать, и гарпии, которая продолжала ждать. Сама же ночь потрескивала все жестче и жестче, пока единорогу не стало чудиться, что сейчас она разломится, и в небе прорвется и разойдется шов, показав – новые прутья, подумала единорог. Где же чародей?
И наконец он торопливо прошел сквозь безмолвие, кружа и пританцовывая, точно кошка на холоде, спотыкаясь о тени. Приблизившись к клетке единорога, он отвесил ей шутливый поклон и гордо объявил:
– Шмендрик с тобой.
Из другой клетки, ближайшей, донеслась колкая дрожь бронзы.
– Думаю, времени у нас очень мало, – сказала единорог. – Ты действительно можешь освободить меня?
Высокий чародей улыбнулся, и даже его бледные пальцы полнились весельем.
– Я говорил тебе, что ведьма сделала три большие ошибки. Твое пленение было последней, а поимка гарпии второй, потому что обе вы настоящие и Маме Фортуне так же трудно обратить вас обеих в свою собственность, как удлинить зимний день. Но, приняв меня за такого же шарлатана, как она, старуха совершила первую и самую роковую. Потому что я тоже настоящий. Я Шмендрик Волхв, последний из пламенных свами, и я старше, чем выгляжу.
– А где второй? – спросила единорог.
Шмендрик засучивал рукава.
– Рух тебя пусть не тревожит. Я задал ему еще одну загадку, но у этой нет ответа. Он, может быть, никогда больше и с места не сдвинется.
Шмендрик произнес три угловатых слова и щелкнул пальцами. Клетка исчезла. Единорог стояла среди деревьев – апельсинов и лимонов, груш и гранатов, миндалей и акаций, – у ног ее бил из земли тихий ключ, над головой разрасталось небо. Сердце ее стало легким, как дым, она собирала все свои телесные силы, чтобы махнуть огромным скачком в нежную ночь. Однако позволила искусу скачка уплыть от нее не исполненным, ибо знала, хоть и не могла их видеть, что прутья остались на месте. Слишком стара она была, чтобы не знать.
– Прошу прощения, – сказал где-то в темноте Шмендрик. – Я предпочел бы освободить тебя именно этим заклинанием.
И запел что-то холодное и негромкое, и странные деревья сдуло, точно пушинки с одуванчика.
– Это заклинание повернее, – сказал он. – Прутья теперь хрупки, как старый сыр, я раскрошу их и разбросаю, вот так.
Но тут же ахнул и отдернул руки. С каждого его длинного пальца капала кровь.
– Должно быть, напутал в произношении, – хрипло сообщил он. И спрятал руки под плащ, и сказал, стараясь, чтобы голос его прозвучал легко: – Раз на раз не приходится.
Несколько царапнувших ухо кремневых фраз, трепет поднятых вверх окровавленных рук Шмендрика. Нечто серое, ухмылявшееся, похожее на медведя, но куда более крупное, хромая и хмуро похмыкивая, вывалилось неизвестно откуда, полное жажды расколоть клетку, как орех, и когтями порвать единорога в клочки. Шмендрик приказал зверюге вернуться в ночь, однако она не послушалась.
Единорог отступила в угол и опустила голову; но тут в своей клетке, тихо зазвенев, шевельнулась гарпия, и серое чудище повернуло то, что, наверное, было его головой, и увидело ее. После чего, издав мутное, булькающее восклицание ужаса, сгинуло.