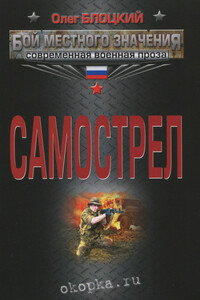Чем чаще посещали Виктора воспоминания, тем больше он в них запутывался. Порой ему начинало казаться, что все это происходило не с ним, а с каким-то другим человеком, который потом ему об этом подробно рассказал, не упустив и мелочей, делающих любое повествование более выпуклым.
Иногда Егорову казалось, что никакого Афгана вообще не было, что все это бред, сон, кошмар.
Но, дотрагиваясь до двух небольших синеватых вмятин на левой руке, он с горечью понимал: было. И он помнит все до крохотных подробностей: холодной и эластичной руки мертвеца, которую он ухватил, чтобы убитый не слетел с несущегося в ночи по разбитой дороге бронетранспортера; косо подрезанных слипшихся волос на окровавленной голове афганского пацаненка, лежащего под дувалом; пряного, терпкого запаха наркотиков в душном чреве бэтээра.
"Может, такие детали лучше всего и запоминаются", - подумал Егоров.
"Дед Молоз", - неожиданно вслух произнес Виктор, тут же оглянувшись, но всем вокруг по-прежнему было наплевать на него, и он вновь произнес, но значительно тише: "Дед Молоз! Я подалки вам плинес!", вспоминая жаркий день, небо, словно застиранная солдатская простынь, над головой, короткие резкие тени, углами вонзающиеся в матовую пыль внутреннего дворика гауптвахты, где Виталька с Файзи пытали духа-караванщика, захваченного накануне мотострелками в одном из кишлаков.
Виталик хладнокровно затянул удавку на его шее так, чтобы ею можно было спокойно владеть простым движением ноги.
Втроем они сидели на лавочке, курили, лениво перебрасывались словами, и ротный время от времени говорил:
- Дед Мороз, дед Мороз, он подарки нам принес, - и вытягивал ногу.
Дух валялся на земле, задыхаясь. Он извивался в пыли, взбивая ее ногами, широко раскрывал рот, и штаны его темнели. Резко и неприятно запахло мочой. Офицеры морщились и крутили носами.
Потом капитан с трудом ослаблял рукой петлю. Караванщик - высохший морщинистый сорокалетний мужик, которому на вид можно было дать все семьдесят, - хрипел, хватался за горло, кашлял и медленно приходил в себя. Багровая полоса, словно узкий ошейник, охватывала его горло.
Затем он плакал, уткнувшись в колени ротному, стараясь обхватить их руками, и все повторял: "Я ничего не знаю! Я ничего не знаю! Я ничего не знаю!"
Перед его исказившимся от страха и боли лицом плавала армейская топографическая карта, и вопросы следовали один за другим: "Где новые караванные тропы? Куда пойдет караван дальше? Места дневок? Какое оружие получила банда Хайрулло? Где оно?"
- Я ничего не знаю! Я ничего не знаю! - сипел афганец и тянулся поцеловать пыльные, в застарелых рисунках грязи, офицерские кроссовки.
- Биляд такой! - возмущался Файзи, стараясь попасть караванщику носком прямо в подбородок. - Свой черный рот убери, биляд душарски!
- Дед Мороз, дед Мороз! - почти меланхолично напевал разведчик.
Караванщик корчился в пыли.
- А может, он действительно не знает? - предположил вдруг лейтенант.
Виталик с Файзи переглянулись и засмеялись.
- Знает, биляд, знает, - уверенно сказал Файзи и, вскочив с лавки, вдруг резко саданул афганцу прямо в пах.
Тот завыл, сворачиваясь в клубок, и завертелся по земле, словно волчок.
Чуть позже выяснилось, что караванщик в самом деле знал. Он рассказал офицерам всJ, и даже сверх их ожиданий. Афганец продал всех. Новые черные полосы - караванные тропы - шрамами вспарывали коричневый рельеф гор, окружавших зеленую долину со всех сторон.
А за решетками камер гауптвахты, в которую был превращен обычный крестьянский дувал, виднелись исхудавшие солдатские лица. Это были подследственные, которых отправляли на Родину, чтобы надолго упечь в тюрьму: за мародерство, грабежи, убийство мирных и за то, что некоторые из солдат не только не желали стрелять первыми, но и вообще не хотели стрелять.
Однако для всех них, отказников, зона в Союзе была настоящим спасением. Если бы они остались в подразделениях, их неминуемо убили бы бывшие товарищи, которые на своей шкуре прочувствовали еще один закон войны: если в бою ты не стреляешь, значит, делаешь духов сильнее и подставляешь нас, гад.