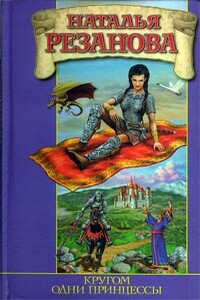– Я не слушаю тебя. Я молюсь.
– Но неужели вы позволите торжествовать этим ничтожествам, которых сами вытащили из грязи?
– В своей жизни я вытащила из грязи только одно ничтожество. Тебя, Фульк.
Ага! Все-таки слушает. Впору прибегнуть к более значимой теме. Вряд ли она спокойно будет выслушивать рассуждения о человеке, которого прежде так страстно любила, и потом столь же страстно ненавидела.
– А он? Слыханное ли дело? При одном самозваном короле еще и второй! Ну не смешно ли – Эд стремится обезопасить своего наследника! Раньше он не был столь осторожен. Стареет наверное, – Фульк был по меньшей мере лет на пятнадцать старше Эда, но это не имело значения – он словно родился без возраста. – Правда, если бы этот наследник был ненамного постарше, он, если хоть малую толику похож на своего родителя, не преминул бы тут же с полным основанием урвать у последнего власть. Впрочем, вряд ли Эд способен об этом подумать. Он же теперь, видимо, для разнообразия, решил быть милостивым. Хотя, если он решил облагодетельствовать всех, кого раньше обидел, очередь выстроилась бы до самого Рима, верно, милостивейшая? Взять хотя бы этого безродного мальчишку, так называемого «крестника королевы», которого он воспитывает вместе со своим сыном, так что он, по сообщению моего человека, больше времени проводит во дворце, чем в монастыре святого Медарда, к которому приписан. Как бишь его? Винифрид из каких-то Эттингов. У меня, помнится, Винифрид из Эттингов осуждался по какому-то делу, – из того же, верно, гнезда, что и это отродье…
Фульк еще что-то говорил, но Деделла не слышала больше ни единого слова. Она положила прялку на скамью и выскользнула из кельи. Он не обратил на это внимания – за все минувшие годы канцлер привык, что Деделла – даже меньше, чем говорящее орудие – орудие безмолвное. Она же научилась сдерживать свои чувства и не побежала, не закричала, но чинно направилась в сторону кладовой. Если бы кто-нибудь спросил ее о намерениях, она с ходу выдала бы какое-нибудь правдоподобное объяснение. Но, несмотря на внешнее безразличие, душа ее кричала. Винифрид из Эттингов! Не чаяла она снова когда-нибудь услышать имя старшего брата. Но Винифрид мертв… а это значит, что ребенок его и Агаты, еще не рожденный к тому времени, что Деделла бежала из Туронского леса, остался жив. Может быть, жива и Агата? И все это время Деделла ничего не знала…
С самого рождения он усвоила твердо – человек сам по себе – ничто, женщина в особенности. Она принадлежит семье, роду, и важна лишь как его частица. Потому так сильно было ее отчаяние, когда погибли ее родные. Виной была не только скорбь, но и потерянность. И вот теперь – неожиданная весть о том, что есть у нее родная кровь. Эттинги еще существуют на земле. Она не одна.
У лестницы, ведущей к кладовой, она задумалась, обдумывая то, что она скажет сестре-ключнице, а также свои дальнейшие поступки. Должно зайти в пекарню… и на сыроварню тоже. И вообще прикинуть, что может понадобиться в дороге.
Она, однако, ни мгновения не колебалась в главном. Хоть она никогда и не признавалась себе в этом, годы, проведенные в замкнутом монастырском мирке. тяготили ее, как никогда не тяготили годы тяжкого крестьянского труда в родительском доме. То, что когда-то представлялось ей раем – тишина, покой, каменные стены, защищающие от страшного мира, стало казаться тюрьмой. К Рикарде же ее не привязывали никакие теплые чувства. Если бы бывшая императрица нашла в своем сердце хоть одно ласковое слово для своей прислужницы, Деделла, может быть, и задумалась, стоит ли расставаться с ней. Но та, замкнувшись в себе, пусть и не считала Деделлу слабоумной, как Фульк, была к ней так же равнодушна, как и к остальным. Но в Деделле-то чувства вовсе не умерли! Они лишь спали, не находя выхода все эти годы, и теперь претворились в неколебимую решимость – увидеть племянника. Единственное родное существо на земле. О том, что может оказаться вовсе не нужна племяннику – ведь тот не бедствует, будучи крестником королевы, Деделла не думала. Не думала и о том, что «крестник королевы» – это все равно что крестник «дьявольского отродья» – подобные соображения были слишком сложны для нее, и, кроме того, если какая-то мысль завладевала ею целиком, для побочных соображений просто не оставалось места.