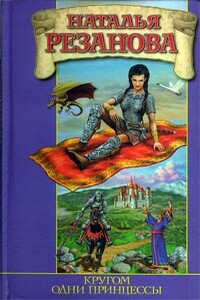Пергаменты, которые он продолжал сжимать в руках, посыпались на стол. Ноги у Авеля подломились. Он понял, что сейчас умрет.
– Уйди, – почти беззвучно проговорил Эд.
Сам не зная как, Авель, пятясь, добрался до двери и выполз наружу. Его колотило, как в жестокую стужу. Привалившись к стене, чтобы не упасть, он стал спускаться – и всей тяжестью наехал на стоявшего под факелом часового. Тот, не разобравшись, схватил его за ворот рясы и встряхнул. Затем, разглядев в свете факела рябое лицо королевского исповедника, выпустил.
– Ты, святой отец, пьян, что ли? – спросил он.
Авель вдруг тоненько всхлипнул. Потом повернулся и, спотыкаясь, побежал к лестнице. На бегу он продолжал всхлипывать и, лишь когда ему удавалось набрать воздуху в легкие, повторял:
– Господи, прости меня! Господи, прости!
Он был убежден, что узнал уже все удары, перенес уже все, что возможно вынести, и отныне ничто на свете не способно его ранить. Он ошибался, как ошибался всегда. Судьба оказалась подобна наемному убийцу, способному долго выжидать в засаде.
…Почему-то болели руки. Он повернул их ладонями вверх и увидел, что они обожжены. Должно быть, это произошло, когда он жег пергаменты, заталкивал их в самую сердцевину пламени, чтобы изошли дымом, чтобы ни клочка от них не осталось… Тогда он не почувствовал, как пламя лижет его ладони. Теперь же ожоги дали о себе знать. Но что такое боль в обожженных руках!
Он вернулся к своему креслу, сел, закрыл глаза. Бесполезно. Пергаменты он сжег, но выжечь собственную память невозможно. Защищаясь от мыслей, которые нельзя было прогнать, подумал: если Авель никому не проговорился до сих пор, верно, не проговорится и теперь. Но если знает кто-нибудь еще, я его убью. Найду и убью. Чтобы никто, никогда…
Та часть его сознания, что способна была еще трезво мыслить, холодно отметила – вряд ли. Похоже, не осталось никого, кто помнил бы о столь давних событиях в Лаонском дворце и на парижской дороге. Старые слуги поразбежались, а мужичье, толпившееся на дороге вокруг клетки с ведьмой, либо повымерло, либо все перезабыло за давностью лет и потоком событий. Прочие мертвы. Фульк, Тьерри, аббат… Все, кто имел отношение к этой истории.
Кроме него самого.
Разумеется, он помнил историю про «ведьму в клетке», но считал ее полным вымыслом, интригой Фулька, провокацией, направленной против него, Эда. Как всегда, он думал лишь о себе. В последнем он, правда, не ошибся – была интрига, измыслил ее Фульк, и нацелена она была на него. Только ведьма существовала на самом деле.
Судьбы дважды попридержала удар – сначала когда Азарика сбежала от своих мучителей, потом когда посланец Фулька попался на глаза Авелю. Но не отвела руки теперь. Когда нельзя уже ни поправить ничего, ни отомстить.
Дьявол, какое же это мучение – не иметь живых врагов! Он почувствовал это еще тогда, когда гибель жены и сына превратила царствование в отбывание пожизненной каторги. Может, ему было бы легче, если бы он верил в колдовство, в магию, в воскрешение мертвых. Но он не верил. Мертвые – мертвы. Однако тогда он еще не знал этого…
А они знали – Фульк, Тьерри, аббат… И всю мерзость таскали с собой, приберегая для собственной выгоды. И, как по сговору, все они умерли не от его руки. Фульк… здесь все ясно. А остальные? Что заставляло их молчать – всегда быть рядом и молчать – главных соучастников? Страх, надежда на шантаж, похоть? Все вместе?
Они знали. А он не хотел знать.
Все муки, весь позор, всю грязь, в которую ее хотели втянуть, прежде, чем убить… все это его не касалось. Она должна была бороться сама. И победила – только он здесь был ни при чем.
А ведь всего этого могло не быть…
Когда-то давно, еще до свадьбы, она попрекнула его, что он не позвал ее с собой после победы под Самуром. Единственный упрек, слышанный им когда-либо от нее (поэтому и запомнил) – хотя повинен он был перед ней в гораздо более тяжких грехах. Он не задумывался, почему. А тогда беспечно ответил ей – из гордости, потому что она его не попросила. Да еще добавил – а что бы от этого изменилось?
Все изменилось бы. Все, если бы он не думал о своей проклятой гордости. Не было бы ни допросов, ни тюрьмы, ни позора, ни клетки. В конечном счете виновен был он, и стократ виновнее тех, других. Потому что они были врагами и поступали соответственно, а он…