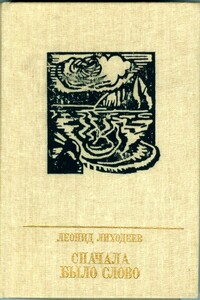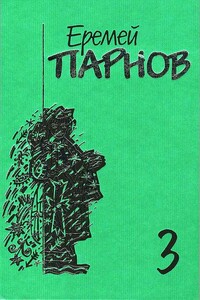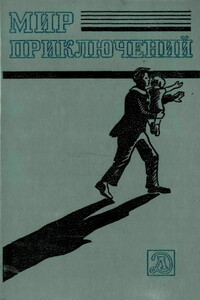Но зачем так беспокойно трещит черно-белая сорока с длинным хвостом? Как траурная бабочка, порхает она с ветки на ветку, завороженно вьется над зарослью бузины.
Э, да там, кажется, скверно.
Увидев торчащие из кустов ноги в яловых, известкой забрызганных сапогах, студент насторожился и, крадучись, придвинулся ближе. Так и есть: человек лежит ничком. Может, мертвый, а может, и пьяный. По виду мастеровой. Поношенный пиджачок, латаные штаны, синий картуз в стороне валяется. Только нет, никакой он не пьяный! Рука странно, неестественно загнута — на безымянном пальце оловянное колечко — и волосы на затылке сплавились, как от черного меда. Тут же и коченеющие осенние мухи вьются. Сонно жужжат, притянутые липким тлетворным запахом, которого не чуют до времени люди.
Студент осенил себя крестным знамением, попятился и быстро-быстро зашагал прочь. Не видел он и не слышал, как скрипнула препротивно дощатая дверца с выпиленным под сердечко окошком и выскользнул из ближнего сортира щекастый мужчина солидной комплекции.
Ковырнув длинным ногтем мизинца мушку усов, он закрылся поднятым воротником и бочком заспешил следом.
Проводив студента аж до самой дачки с верандой, застекленной разноцветными квадратиками, он задумчиво покрутил носом и пропал в соснах. А студент долго топтался на крыльце, откашливаясь в кулак, соскребал о железную скобу грязь с подошв. Наконец все же решился и позвонил. Открыла ему сама госпожа Эльза. Оживленная, в белой бережевой кофточке с рюшами и воланчиками, она кинулась на долгожданный клекот дверного колокольчика, но вдруг застыла разочарованная, погасив на пороге порыв.
— Что вам угодно? — Она удивленно подняла брови.
— Простите мою смелость, сударыня, — потупившись и краснея, залопотал студент, — что я, не будучи представлен, тем не менее решился. — Он смешался, замолк, но, пересилив себя, поднял на хозяйку дома ясные тоскующие глаза. — Я принес стихи, — еле пролепетал он и вытянул из бокового кармана свернутый трубкой веленевый лист, перевязанный креповой ленточкой.
— О, стихи! — непроизвольно улыбнулась Аспазия, настолько все было нелепо и трогательно. — Милости прошу, — она отступила, приглашая гостя войти. — Мужа, правда, нет сейчас дома, но он скоро обещался прийти.
— Собственно, я именно к вам, сударыня. — Студент положил фуражку с голубым околышем на подзеркальник и, как завороженный, застыл у вешалки.
— Ко мне? — склонила голову к плечу Аспазия. — Очень мило с вашей стороны. Что же вы не раздеваетесь?
— Вы слишком добры, сударыня! — Он повесил шинель, пригладил набриолиненные волосы, промокнул платком дождевые капли, повисшие на закрученных концах усиков.
— Прошу, — она указала на лестницу и прошла вперед. — Пожалуйте в мою рабочую келью.
Он остановился на пороге, отрешенным взором окинул комнату: маленький столик с аккуратными разноцветными томиками, зеркало в чеканной оправе, засохший лавровый венок над этажеркой, старинный серебряный подсвечник, вышитая роза на пяльцах, китайская шкатулка, альбом.
— Per aspera ad astra! Через тернии к звездам! — прочел он надпись на, потемневшей ленте и, шаркнув ногой, запоздало представился: — Борис Сталбе, студент Дерптского университета.
— Очень приятно, господин Сталбе. — Она пригласила его присесть на диванчик. — Разве занятия еще не начались?
— Совсем напротив! — с живостью откликнулся он, намереваясь вскочить, но ласковым кивком Аспазия удержала его. — Я вынужден был приехать на похороны дядюшки.
— Так вы племянник провизора! — Она сочувственно кивнула. — Примите мои соболезнования. Ваш дядюшка был прекрасный человек, и все мы здесь его очень любили. — И, меняя тему, спросила: — Давно пишете?
— С гимназии, сударыня. Я пробовал печататься в журналах, но мои стихи неизменно возвращались назад.
— Ничего. — Она ободряюще тряхнула головой и тут же проверила, на месте ли черепаховые гребенки. — Все через это проходят.
— Я знаю ваши творения. — Он разрумянился и стал живее. — Начиная от «Вайделоте», — кивком указал на венок, — и кончая последними стихами, напечатанными в «Латвии» и «Диенас лапа».