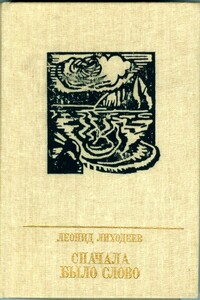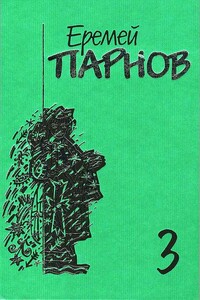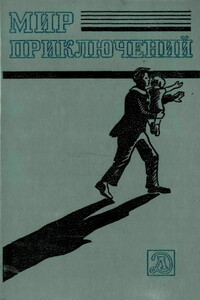Грозное, неотвратимое будущее лишь смутно угадывается, мерещится в минуты прозрения и пустоты. Шумит окрашенный охрой залив. Вышвыривает на берег скользкие бурые кучи травы, огрызки лодок, сорванные с сетей поплавки. Что-то еще случится там, на краю света, где молния проносится над океаном, извилистая и колючая, словно дракон…
Переменился и ласковый лес на дюнах. Сквозь замшелые стволы сосен и хмурую хвою ельника беззащитно сквозят бледно-желтые листья березок, ольховая ржа и трагический лихорадочный пламень рябин.
Одинокий офицер бредет по раскисшей тропинке. Время от времени подносит к глазам призматический бинокль и озирает пустой горизонт. Нет, он никого не ждет и не ищет. Просто гуляет.
Ошалевший, порывистый ветер раздувает серебристые полы его суконной шинели, продымленной кислой селитрой далекой войны. И все ему чуждо в родной стороне, и сам он чужой здесь, как залетная песня цыганки: «Ой да, ой да бида прэлэндэ накачалась: чай разнесчастна навязалась».
У мокрых клумб, прислонясь к фонарю, покуривает заросшая личность в мохнатом бушлате. Как отобедавший жуир, смакует пахучий окурок сигары.
— Доне келькшоз пур повр офисье, — безбожно коверкая язык, канючит бродяга и для верности повторяет: — Подайте что-нибудь бедному офицеру.
— Как же это вы, братец? — Поручик с биноклем лезет в карман за портмоне. Дает серебряный рубль с профилем обожаемого монарха.
Бродяга выплевывает сигару и от избытка чувств пытается облобызать благодетелю ручку.
— Мерси боку! — Он провожает офицера увлажненным взглядом до самого кургауза. Как нежную музыку впитывает угасающий хруст гравия под сапогами. Вот и ушел, скрылся за поворотом. Зыркнув заплывшими глазками по сторонам, оборванец разжимает ладонь. Уныло блестит в ранних сумерках серебряная, с именной надписью, крышка часов.
— Клевые стукалы у масалки. — Карманник прищелкнул языком, сунул часы за пазуху и в один миг сгинул.
Пусто в это блеклое предвечернее время в лесу и на пляже, на мокрых, усыпанных желтой листвой линиях курортных местечек. Каждый человек на виду, самый бесцветный прохожий привлекает внимание.
У конторы купального заведения Максимовича поручика остановил франтоватый студент.
— Который теперь час, господин офицер?
— Извините, забыл дома, — буркнул поручик, пошарив по карманам. И пошел своей дорогой.
Ни часов, ни цепочки! Черт с ними, конечно, да только жалко: от товарищей память. Надвинув козырек на брови, раздраженно дернув щекой, поручик решительно повернул обратно, к станции, где подремывал под навесом жандарм в долгополой шинели, смазных, с напуском, сапогах и круглой мерлушковой шапке. На перекрестке, у самой аптеки, отпускной фронтовик чуть было не угодил под лошадь. Обдав его навозной жижей, прогрохотала разболтанная пролетка. Извозчик в немецком цилиндре и скучающий господин в черном пальто даже не обернулись.
Перестрелять бы всю эту сволочь! Поручик зачем-то навел бинокль вслед подпрыгивающему по мокрой мостовой экипажу. Но что могла сказать ему покачивающаяся на рессорах спина? Тем более что графа Рупперта он и в лицо-то едва бы узнал, хотя учились они в одном кадетском корпусе. Брезгливо отряхнув шинель, поручик сплюнул:
— Сволочь!
Дракон уже дохнул пламенем. Но прежде чем пожрать укрепленные форты, полки, крейсера, оно опалило души. Опережая весть о конфузе и ярости поражения, подобно эпидемии, начала распространяться нервическая озлобленность. Растущая в обществе напряженность прорывалась повсеместно и в самых разнообразных формах. На крыльях ночи летели истерика, срыв, пьяный бред. И леденящая нирвана кокаина, когда на людях у какой-нибудь коротко остриженной и гибкой дамочки, затянутой в платье из кожи гремучей змеи, вдруг белел замороженный носик.
Студент, повстречавшийся поручику у конторы Максимовича, вышел на Третью линию и направился вдоль дюн. В фуражечке с крохотным козырьком и на прусский манер без полей, с нарочито отвороченной левой полой шинели, чтобы видна была белая шелковая подкладка, он казался типичным студентом-драгуном, беспечным искателем приключений. Сколько таких мотыльков отлетало за лето над взморьем и исчезло вместе с надушенной веселой толпой, праздничной музыкой, фейерверком и белыми цветами жасмина в дюнном лесу, где было произнесено столько взволнованных клятв, столько сорвано поцелуев!