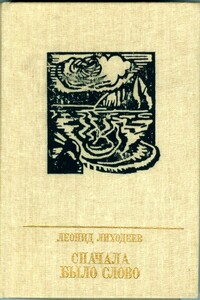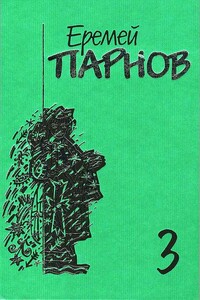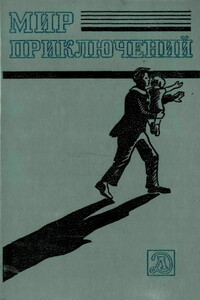— Намекаю? — изумился адъютант, которому уже море было по колено. — Али вы про Трепова не слыхали, про Дурново? Великая сила грядет, грубая и безжалостная. Ницше читали? — Он круто повернулся на каблуках, так что взметнулся витой шнур аксельбанта, и, танцуя, приблизился к полковнику. — Комиссаржевская, Блок, Станиславский, Врубель! — Он залился пьяным смехом. — Господи, какая чушь! Голая Дункан? К чертям собачьим…
— Flegel, — прошептал утонченный Пильхау. — И этот тоже хам!
— Бросьте, Курт, — отмахнулся Мейендорф. — Может быть, он и прав. Эпоха. Мы зажаты в железный ошейник. С Востока надвигается желтая опасность. С Запада нас подтачивают всевозможные либеральные течения, изнутри мы поражены язвой разбоя. Выхода нет. Предстоит истребительный бой, кровавая мясорубка, в которую затянет всех. Постараемся же выстоять. — Он понизил голос: — Ну, братья-рыцари, будьте здоровы.
Юний Сергеевич был мрачен. Его одолевали дурные предчувствия. Он понял, что свалял дурака. Консерватор хорошо смотрится лишь на либеральном фоне. Когда же остаются одни консерваторы, начинается беспардонная драка вокруг корыта.
Весна, пришедшая на берега Невы, мало что изменила в жизни Петербурга. Парализованная столица по-прежнему корчилась в конвульсиях забастовок. Дымы Путиловского и Обуховского уже не окрашивали закаты в трагические цвета, и небо над рабочими слободками казалось пугающе бледным. Вроде бы мелочь, но ее заметили и даже воспели в декадентском журнале «Весы». Перебои же с электроэнергией и связью стали привычными и на творчество не вдохновляли. Даже ярых славянофилов не восхищала более патриархальная допетровская чистота. Они вдруг прозрели и спохватились, что до Петра не было и города на невских островах.
Барон Мейендорф проявил в столице неуемную энергию. Он побывал в Правительствующем сенате, кабинете его императорского величества, собственной его императорского величества канцелярии и в первую голову министерстве внутренних дел, где был благосклонно принят товарищем министра Дурново. Не миновал он и министерства императорского двора и был обласкан бароном Фредериксом, но наиболее преуспел в великосветских салонах, куда открыла ему дорогу камер-фрейлина Вырубова, большая охотница до копченых угрей и потусторонних экзерсисов.
В ее гостиной его и удостоил беседой великий князь Николай Николаевич. По случаю военных действий главнокомандующий носил полевую летнюю форму. Скромно и значительно блестел на белом кителе орден Святого Георгия. Змий в розовом медальоне, пронзенный доблестным копьем великомученика, мнился в эти суровые дни ожидания азиатским драконом.
Внимательно ознакомившись с кредо балтийского рыцарства, Николай Николаевич задумчиво поскреб макушку:
— С военным положением вы малость перехватили. Войну мы на сыпинтайских позициях ведем, а не в своих губерниях. Но гарнизон маловат, согласен. Придется помочь.
— Народ обозлен и дезориентирован. Его сбили с толку всевозможными разговорами и слухами о реформах. Какие могут быть реформы сейчас, когда все сословия должны объединиться вокруг престола. Возвышенная идея самодержавия неизменна…
— Протрите глаза, барон. В каком столетии вы живете? Неизменных идей нет и быть не может. Даже на самодержавие и то по-разному смотрели в предыдущие царствования. Российская империя вправе ожидать известных перемен и в нынешний период. Уверяю вас, она их дождется в урочный час.
— Но Пашков вслед за Витте…
— Ах, не путайте вы Витте с вашим мизантропом! Пашков, вы говорили, мизантроп?
— Совершеннейший мизантроп, ваше императорское высочество.
— Ну вот видите! А Сергей Юльевич — умнейший человек, настоящий государственный муж. Он дело говорит. — Николай Николаевич встал, давая понять, что аудиенция закончена, и, скрипя шевровыми сапогами, прошелся по комнате. — Так-то, барон… Значит, будем считать, что мы обо всем договорились. Усадьбы ваши постараемся оградить, хотя не вы одни страдаете от мужика… Если не станет возражать Дмитрий Федорович, установим в прибалтийских губерниях положение усиленной охраны. Для начала. Думаю, министерство поддержит.