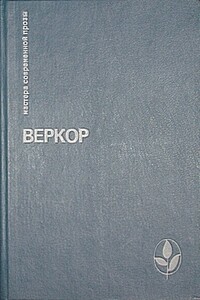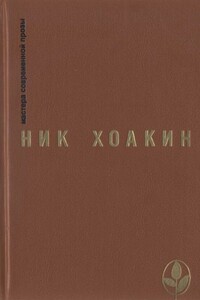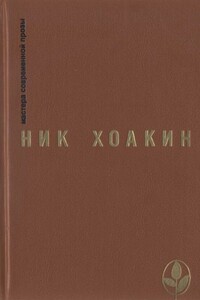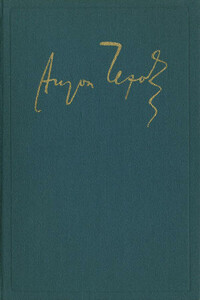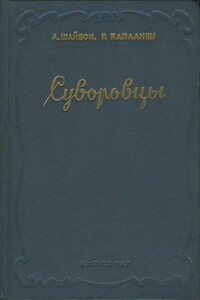Но был на этой улице дом, который не поглотили трущобы, который сопротивлялся джунглям до самого конца. Он упрямо боролся за то, чтобы сохранить себя, сохранить свое лицо. И понадобилась мировая война, чтобы уничтожить этот дом и тех трех человек, что боролись за него. Они погибли со своим домом, со своим городом — и это, быть может, к лучшему. Они бы ни за что не пережили гибели старой Манилы…
Дом стоял на углу Калье Реаль. Часть стены, груда битого кирпича — все, что осталось от него, от дома дона Лоренсо Марасигана. Здесь стоял этот дом на протяжении жизни многих поколений. Да, снаружи его тоже можно было принять за сдаваемую внаем трущобу. Выглядел он точно так же, как и другие старые здания на этой улице: потемневшая от мха крыша, осевшие балконы, неокрашенные стены в трещинах… Но стоило пройти за ограду, толкнув старинную массивную калитку, и вы видели перед собой тщательно подметенную дорожку, чистый уютный патио… Ни мусора, ни веревок для белья. Поднявшись по вощеной лестнице в сверкающий зал, вы попадали в другой мир — мир, «где все привычно и размеренно»…
Внутри сцены загорается свет. Через прозрачный занавес виден зал в доме Марасиганов.
И дело не только в морских раковинах вдоль лестницы, в барочной мебели, в старых портретах на стенах, в семейных альбомах на полках. Сама атмосфера дома говорила об иной эпохе — эпохе ламп и газовых рожков, эпохе арф, бакенбард и элегантных карет, эпохе утонченных манер и мелодрамы, эпохе религии и революции.
Поднимается второй занавес.
Его больше нет — нет дома дона Лоренсо Великолепного. Ничего не осталось, только часть стены и груда битого кирпича. Но вот каким он был до своей гибели. И я уверен, точно так же он выглядел и сто лет назад. Он оставался прежним, не меняясь. Я помню его с раннего детства — он всегда был таким. Я рос, вокруг меня рос и быстро менялся город, все преображалось, ни в чем не было постоянства. И лишь одно казалось мне незыблемым — этот дом. Это было единственное место, куда я мог прийти и застать все в неизменном виде. Старше — да. Старше, темнее и молчаливее. И все же — прежним, каким я его запомнил маленьким мальчиком, когда отец приводил меня сюда по пятницам вечером.
Зал уже полностью освещен. Это большая комната, тщательно убранная, с натертыми полами, — но все в ней, и прежде всего мебель, говорит о годах запустения. Краска на стенах потемнела и местами сошла. Оконные стекла в трещинах. Дверные проемы покосились. Барочная элегантность потускнела. В задней стене две застекленные двери, выходящие на осевшие балконы, что нависли над улицей. В центре, между дверями, большая софа в обычном сопровождении: два кресла-качалки, круглый стол и два прямых кресла. Сейчас стол и кресла стоят перед правым балконом, дверь закрыта. Стол накрыт для мериенды. Через открытую дверь левого балкона в комнату падают косые лучи послеполуденного солнца и видны неопрятные дома напротив. Слева в глубине сцены перила лестницы, поднимающейся снизу, от задника. В середине левой стены закрытая дверь. У задней стены возле лестницы — старомодная вешалка с подставкой для зонтов и зеркалом.
Справа в глубине сцены этажерка для безделушек, заполненная морскими раковинами, статуэтками, семейными альбомами, журналами и книгами. В центре правой стены дверной проем, обрамленный занавесями. Возле него пианино. На креслах вышитые подушки, у балконных дверей и у двери справа — подставки для горшков с цветами. На стенах — над софой, пианино и этажеркой — увеличенные семейные фотографии в вычурных рамах. С потолка свисает люстра. Картина «Портрет художника-филиппинца» висит в центре воображаемой «четвертой стены» между сценой и зрительным залом. «Слева» и «справа» везде определяются по отношению к зрителям.
(Входит в комнату.) Я был здесь, как сейчас помню, в начале октября сорок первого года, всего за два месяца до начала войны. Тысяча девятьсот сорок первый! Помните этот год? Для народов Европы это был год Гитлера, а здесь — год конги, буги-вуги, учебных затемнений, год, когда в моду вошли платья с вырезом на животе. О конечно, мы были уверены, что война скоро доберется и до нас, но точно так же мы были уверены, что она не продлится долго и ничего, ну совсем ничего, с нами не случится. Когда мы говорили: «Не давать спуску!» или «Жизнь идет своим чередом», голоса наши звучали весело и мужественно, в сердцах не было тревоги. И поскольку мы чувствовали себя в полной безопасности, поскольку мы были так уверены в себе, мы намеренно старались чуть-чуть припугнуть самих себя. Помните мрачные слухи, которые мы же и распространяли? Мы наслаждались дрожью, когда их пересказывали, и с таким же наслаждением, дрожа, выслушивали их. Это была игра. Просто игра, чтобы пощекотать нервы. Мы были искушенными детьми, которые играют в насилие и убийство, наполовину желая, чтобы все это оказалось правдой.