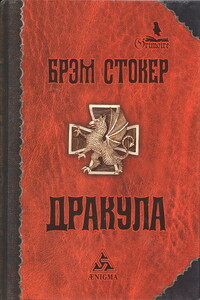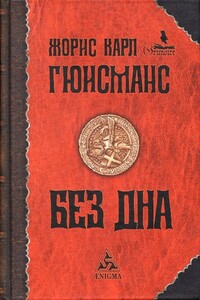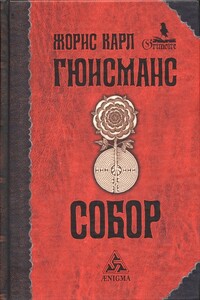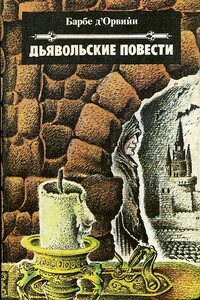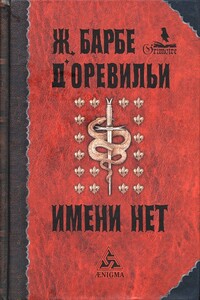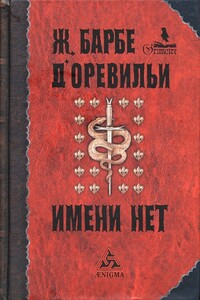— Белая Пустынь — аббатство знатное! — воскликнул Ле Ардуэй. — Лакомый кусочек уплыл у него из-под рук! Монахи там как сыр в масле катались. Хоть и поджимали губы, как святой Медард, и псалмы пели, какие поют у вас, господин кюре, в церкви, но жили припеваючи и от души веселились. Особенно когда епархией управлял Таларю. Дело известное, кобылка пьяницы вместе с хозяином в кабаке сидит! И не то чтобы на них наговаривали, я своими собственными глазами видел и епископа, и всех монахов аббатства…
— Будет, сударь, будет, — дружески прервал кюре предосудительные воспоминания своего прихожанина. — Я совсем не хочу знать, что вы там видели! Всем известно, как злы вы бываете на язык, значит, и смотреть можете недобрым взглядом, и запомнить недоброе. Я и сам знаю, что наша Церковь не без греха, а монсеньор де Таларю вспоминал до седых волос кавалерийскую молодость. Но на всякий грех есть милосердное прощение, а монсеньор де Таларю умер, как святой, — в нищете и на чужой стороне. Бог помог ему смертью искупить прегрешения жизни.
— Я не говорю, что вы неправы, но… Ну да ладно, кончим! — согласился Ле Ардуэй, увидев, как потемнели синие глаза смотрящей на него Жанны. — Однако думаю, ваш аббат де ла Круа-Жюган попортил себе лицо не во время утрень да вечерей.
— Так оно и есть! — покаянно воскликнул кюре и, молитвенно соединив ладони, поднес их к брыжам. — Ах, дорогие мои, ну что за слабые мы создания! — воскликнул он с той скорбной мягкостью, с какой читал в церкви проповеди. — Революция, дочь Сатаны, перебаламутила всем мозги, на ней и вина за многие беды. Аббат де ла Круа-Жюган принял имя брата Ранульфа, и разве покинул бы он монастырь, если бы его не закрыли? Но вместо того, чтобы уехать, как мы все, за границу и служить мессы на Джерси или Гернсее, он, позабыв, как Церковь страшится кровопролития, отправился вместе с господами дворянами сражаться в Вандею, в Мэн, а потом и сюда, в Нижнюю Нормандию.
— Так значит, господин аббат шуан? — уточнил Фома Ле Ардуэй со злобной усмешкой, которая обнаруживала яснее ясного враждебность, что по-прежнему жила в нем, хоть революционные войны и кончились. А Фома ведь был человеком скрытным, оплошностей старался не совершать и семь раз поворачивал язык во рту, прежде чем что-то высказать…
— Да, шуанствовал, — серьезно подтвердил кюре Каймер. — А подобало ли это пастырю и священнослужителю? Нет, не подобало, что правда, то правда. И Господь осудил его и написал свое осуждение прямо у него на лице. Но пречистая Дева Мария! Он бы простил его, Милостивец, потому как не может человек объять своим разумом происходящее и сражался аббат за святую Матерь-Церковь. Шуанство Господь не поставил бы ему в вину, но…
— Но что? — подхватил Фома, и глаза его заблестели острым недоброжелательным любопытством. Он уже поднес было стакан ко рту, но остановился и не отпил.
— Но… — повторил кюре и понизил голос, словно приготовившись сделать трудное и горькое признание.
Жанну ледяным холодом обдало, ей показалось, будто волосы у нее под тугим крахмальным чепцом зашевелились.
— Есть кое-что похуже, чем пролитие крови врагов нашего Спасителя и святой Церкви, хоть для священника проливать кровь — страшный грех и святые каноны запрещают это. А о худшем я говорю вам, мои дорогие, не потому, что забыл завет милосердия, а потому, что не следует пренебрегать правдивым примером. Аббат де ла Круа-Жюган стал великим грешником, зато теперь несет подвиг великого покаяния. Он поддался страстям своего времени и заблудился на путях человеческих. После битвы под Фоссе аббат счел свое дело проигранным, позабыл, что он христианин и священник, и дерзнул совершить над самим собой омерзительный грех самоубийства, которым закончил жизнь предатель Иуда.
— Как?! — воскликнул Фома. — Неужели он сам себя так изувечил?
— Сам, — отвечал кюре, — но и не только..
И кюре рассказал, что произошло в домишке Марии Эке, как отважная женщина спасла и выходила самоубийцу.
Жанна слушала рассказ с болезненным увлечением, но выдавала себя лишь слегка приоткрытым ртом и сведенными бровями. Ни одного восклицания, услаждения слабодушных, не сорвалось с ее губ, ни словом, ни вздохом не нарушила она молчания, но перед ее глазами вновь ожило видение, завладевшее ее мыслями во время мессы.