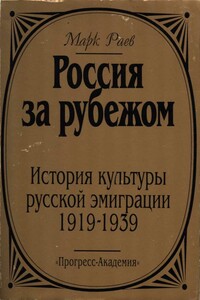Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в Российской Империи - страница 18
52
53
существовал в конце XVII - начале XVIII века, к нему невозможно было обратиться за помощью в проведении идей и методов камералистики и регулярного государства. Действительно, связи местной и социальной солидарности, по крайней мере в конце века, выполняли в основном охранительно-защитную функцию, то есть функцию сохранения традиционного образа жизни, обычаев и умонастроений, которые как раз противостояли идеалам производительности и оптимального использования ресурсов - самой сути новой политической культуры.
Традиционные автономные объединения Московского государства были слишком пассивны и отсталы, чтобы встать на сторону новой политической культуры. К тому же, сопротивление новшествам и форма организации, особенно у казаков и в меньшей степени у стрельцов, представляли слишком большую опасность для государства, чтобы правительство Петра положило возможным ими воспользоваться. Подозрение и ненависть, которые Петр питал к стрельцам, широко известны - он видел в них потенциальных союзников царевны Софьи и угрозу своей власти; стрелецкий бунт, вспыхнувший во время поездки Петра за границу, предоставил ему долгожданный случай избавиться от них раз и навсегда. Что касается казаков, то они всегда были источником и авангардом всех народных мятежей, например, астраханского и Булавинского, которые были жестоко подавлены крупными воинскими силами. Наконец, что касается "корпоративной"* лояльности крестьян и городского населения, то она существовала прежде всего у старообрядцев. А они отказывались признать самую легитимность послениконовского Московского государства; они яро отвергали мирское правительство, принципы которого, по их мнению, внушены дьяволом, а глава его, царь, является прямым воплощением Антихриста.
54
Старообрядцы, влиятельное меньшинство крестьян и ремесленников, беспрекословно послушное своему приходскому и монастырскому духовенству, отвергали новое государство и жестоко преследовались за тот отпор, который они ему оказывали; они не могли стать ни активными сотрудниками, ни даже простыми сторонниками модернизации, проводившейся петровским режимом. К тому же, всем этим зачаткам традиционных корпоративных организаций, вследствие их разнородного социального и юридического характера, пришлось бы еще долго развиваться и укрепляться, прежде чем получить активную роль в общественной жизни конца XVII века. У них не было времени развиться в сословие. А потрясениями и новшествами, которые вызвали ослабление и развал московской политической культуры и подорвали ее нормы и ценности, практически были уничтожены и местные независимые организации.
Правительству Петра ничего не стоило с ними покончить. Оно этого достигло, введя заново строгое и исправное исполнение служебных повинностей, так чтобы разрушить местную и семейную солидарность. Вместо того, чтобы оставаться территориально замкнутым корпусом, сохраняющим родственные связи и возглавляемым родовыми старейшинами, призванные на службу провинциалы назначались с этих пор на посты в индивидуальном порядке, перемещались по воле центральной администрации и были обязаны постоянно оставаться на своем посту. Точно так же и узы городской и крестьянской солидарности, и без того уже слабые, были ликвидированы рекрутским набором в модернизированную армию и вынужденными перемещениями для работ в отдаленных местностях (таких, как строительство Ладожского канала и возведение новой столицы у Финского залива) либо подорваны непомерной тяжестью налогов и податей.
55
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Государственная служба была при Петре единственным способом социального продвижения. Вступление в служилый класс составляло реальную привилегию как материальную, так и социально-психологическую: только лица на государственной службе пользовались хоть какими-то материальными гарантиями и некоторой правовой защитой их личности и собственности. Богатство само по себе не много весило в сравнении со службой, социальное происхождение довольно мало значило в сравнении с принадлежностью к привилегированному правительственному классу и возможностью продвижения по службе. Критерий службы как основа социального устройства был узаконен и упорядочен введением Табели о рангах (1722). За несколькими исключениями и несмотря на некоторую неясность ее положений, социально-правовое устройство Российской Империи вплоть до середины XIX века укладывалось в рамки Табели о рангах. Самодержавное государство в результате получило и закрепило за собой абсолютный контроль социальной иерархии и, следовательно, подчинило своей воле членов правительственного класса, то есть верхушки имперского режима. Какова бы ни была природа нарушения ее положений, Табель о рангах оставалась в силе, потому что одновременно обеспечивала первостепенную роль государя и его успешный контроль за верхами и сообщала некоторую гибкость социальному устройству, что позволяло энергичным и активным людям, всем тем, кто полностью отождествлял себя с ценностями и целями регулярного государства, подняться наверх и войти в ряды культурной, политической и экономической элиты страны.