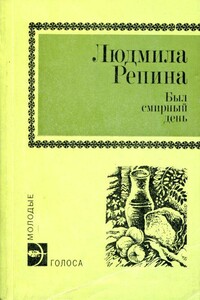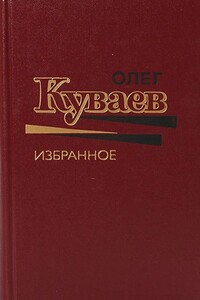«Минаева! Минаева где? Телеграмму ей отдайте, девочки!» — раздалось в коридоре, в стороне общежитийской кухни.
Сквозь убывающий сон она не успела удивиться и испугаться. Только представила, как медлительная Вера Звягина вытирает руки о фартук и берет письмо… нет, телеграмму. А Раечка сбоку старается заглянуть в адрес на бланке, но должна прятать от комендантши свою постирушку — платки и комбинашки в кухонной раковине.
«Инок, на! От кого это?» — Вера все вытирает руки и потом расправляет фартук. Смотрит, как Инна, испуганно скосив глаза, разбирает обратный адрес: из сельсовета послано.
«Мамынька!..»
Пожилая комендантша не уходит. В другое бы время распекла девчонок за пожароопасный абажурчик, вырезанный из цветной бумаги, на темном шнуре проводки под потолком. И за «паутинку» в мороз досталось бы… Рослая рыжеватая Инна вжалась лицом в подушку, выкинув кверху натоптанные капроновые следы.
«Ой, что это она?» «Да тише!» «Да что?..»
Пустующая койка у двери облита серым суконным одеялом, дальше, у окна, под мятыми голубыми покрывалами, постели Веры и Раечки. Койка Инны сбоку, да проходе. С нее расслабленно свешивалась крепкая рука в остатках загара, и из подушки слышались глухие рыдания.
Телеграмму подобрали, гуще набились в комнату. Что-то говорили… И Минаева на боковой койке сильнее заходилась слезами, отчужденно отворачивалась от расспросов. Рыдала от жалости к себе и от испуга. В смерть матери пока как бы не веря… Еще не отделив полностью в чувствах свое от ее существования. Так бывает, когда еще не оставлено позади детство.
Наконец из комнаты ушли и погасили свет, зачем-то укрыли ее с головой одеялом с пустой койки. Инна обессилела и согрелась под колючим одеялом. И к утру забылась сном…
Да. Вот… На тумбочке деньги лежат. Собрали. Ей доехать до Бурцева. Записка: «Инночка… держись… Мы с тобой, Инночка…» Ее не будили на занятия. Штапельные занавески на окнах в желтых с зеленым букетах плотно задернуты. Вера с ней осталась для присмотра.
Пригородный поезд бежал ходко. За окнами голые прозрачные осинники, черные ели. Бессолнечная предзимняя хмарь.
Ноябрь. На днях мороз был… А потом снова отпустило. Мать в полушалке и в коротких сапожках, в одном платье крыльцо надраивает… Такой представила ее сейчас Инна. В оттепель — разгрести все вокруг дома. Что бы там ни было, сердце у нее пошаливало, все кругом отскрести… А уж в доме-то всегда парадная чистота. И всегда мама знала без письма, когда Инна приедет…
Сосед их, Гощенин, заговорил с нею прежде как секретарь сельсовета о деле:
— Восемнадцать-то есть? Вступишь в права наследства. Мы, со своей стороны, завтра-то тебе поможем во всем. Хоть ты в совхозе и не работаешь… Пособие-то тебе сложно будет выписать.
— Как хотите, не надо мне.
Ее обдало холодом и одиночеством. Мог бы и знать Гощенин, сколько ей лет… Восемнадцать будет. Хотя ведь уже года три, как она уехала, поступила в техникум… Инна наклонила голову и туже затянула темный платок.
Пронзительно задувало по дороге от березняка на горке. Там Выхинское кладбище… И речка за домами стояла серая, в закрайках льда. Дверь в контору сельсовета осталась приоткрытой. Все движения и слова у нее сегодня получались оборванными и скованными. Сейчас она заметила, как дует от двери, и поежилась за себя и Гощенина, тот сидел над бумагами в клетчатой застиранной рубахе, сверху наброшена телогрейка. Поправил круглые металлические очки, нерешительно взъерошил волосы: