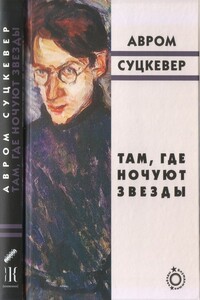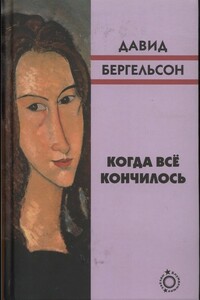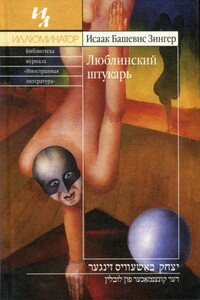Но народ так развеселился, что никто не обратил внимания на слова раввина. Только один парень ответил:
— Ребе, да когда ж это было? Вот с такой бородой история…
Тирца-Перл услышала на кухне, как невежда ответил ее мужу, и рассердилась. Если разрушение Храма было давно, то что же? Разве сегодня злодеи и убийцы не такие же, как тогда? Разве сегодня евреи не страдают? И если Господь не сжалился над евреями в те времена, почему Он должен сжалиться сейчас? Тирца-Перл захотела войти к мужчинам и как следует их отругать, но сдержалась. Варшава — большой город, здесь не знают, что такое уважение. Такое поколение нынче. В кухню вошел староста Йосл.
— Ребецн, я прикажу оштукатурить стены. Приведу мастера, он всё исправит.
— Стены меня не беспокоят. Как евреи могут веселиться в пост?
Йосл пожал плечами.
— А чего бы им не веселиться, если у них заработок есть?
После молитвы народ ушел, оставив скамейки перевернутыми[156]. Горела единственная свеча. Реб Менахем-Мендл, со свалявшейся бородой, в разорванном халате, босой, сидел на низенькой табуретке и читал мидраш о Плаче Иеремии. Гемору сегодня изучать нельзя, в пост надо предаваться скорби, а от Торы становится радостно на сердце. Тирца-Перл, тоже без обуви, в чулках, подошла к мужу и вынула репей из его бороды.
— Менахем-Мендл, не могу я больше терпеть!..
Реб Менахем-Мендл поднял глаза от книги.
— А что делать? Изгнание есть изгнание. Хорошо еще, что они на молитву пришли. Могли бы давно бороды сбрить.
— Как-то мне здесь перестает нравиться.
— Кто знает, может, уже настали времена Мессии? — вздохнул реб Менахем-Мендл.
Он напомнил жене признаки, по которым Мессия должен скоро прийти: наглости и невежества становится все больше, уважения друг к другу все меньше. Богобоязненных людей презирают, лицо поколения подобно песьей морде… Тирца-Перл покачала головой. Она тосковала по былым временам, по маленькому местечку, где евреи вели себя по-еврейски. Круглый год читали покаянные молитвы, помнили обо всех бедствиях, наветах и погромах. В первый день каждого месяца женская часть синагоги была переполнена. Три недели от поста до поста[157] все пребывали в печали, с первого ава по девятое мясные лавки были закрыты. Благочестивые женщины весь год постились по понедельникам и четвергам. Ходили на могилы предков. Там, в Туробине, евреи были евреями. А здесь, в большом городе, все делается кое-как. Тирца-Перл вспомнила про детей и внуков.
— Менахем-Мендл!
— Что?
— Давай уедем отсюда!
— Куда мы уедем?
— В Палестину…
Тирца-Перл услышала, что на кухне открылась дверь. Наверно, кто-то с вопросом. Она вышла на кухню и увидела высокую белокурую женщину в слишком коротком платье. Тирца-Перл знала, что на их улице полно девушек легкого поведения. Иногда они приходят к раввину, чтобы спросить о годовщине смерти кого-нибудь из своих близких. Тирца-Перл отвернулась, ей стало неприятно.
— Чего вы хотите?
— Вы… жена… ямпольский раввин?..
Девушка говорила по-еврейски с сильным акцентом, подбирая слова. Тирца-Перл удивилась: откуда она знает про Ямполь, почему она так говорит?
— Да, я.
— Вы… мать… Азриэл?..
— Да, я мать Азриэла.
— Где… он… жить?..
Тирца-Перл испугалась. Похоже, Азриэл связался с одной из тех, и теперь она его разыскивает. Кровь отлила от лица.
— Не знаю, не знаю, — соврала она.
— Я… дочь… Калман…
И вдруг девушка рухнула на пол. Услышав, как ударилось ее тело, реб Менахем-Мендл выбежал на кухню. Тирца-Перл рванулась к бочке, зачерпнула ковшом воды и плеснула девушке в лицо. Наконец-то она поняла, кто это: Мирьям-Либа, крещеная дочь Калмана. Платье Мирьям-Либы задралось, так что из-под него показалось белье. Всплеснув руками, Тирца-Перл кинулась к ней и попыталась одернуть подол. Реб Менахем-Мендл стоял с книгой в руке, растерянно моргая. Мирьям-Либа открыла глаза.
— Вставай, вставай! Менахем-Мендл, помоги!
Реб Менахем-Мендл заметался по кухне. Он не знал, куда положить книгу, не знал, чем помочь. Ему нельзя прикасаться к женщине. Хотя в таком случае, наверно, можно. Даже нужно.
— Праведный дурак! — рассердилась Тирца-Перл.
Так в Талмуде назван человек, который не стал спасать тонувшую женщину, потому что не захотел смотреть на ее наготу.