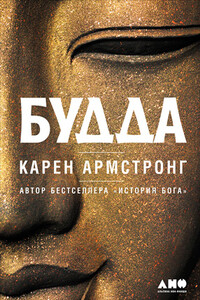Обращение Константина само по себе было переворотом. Христианство еще не стало официальной религией Римской империи, но уже обрело легальный статус. Отныне Церковь могла владеть собственностью, строить базилики и храмы, вносить вклад в общественную жизнь. Однако те христиане, которые с воодушевлением приняли имперское покровительство, упустили из виду, что концы с концами не сходятся. Иисус заповедовал делиться последним – а христианский император жил в неописуемой роскоши. В Царстве Божьем богачи и бедняки должны сидеть за одним столом – а Константин жил на совершенно особом положении. Стало быть, связывая себя с угнетательским аппаратом аграрного государства, христианство компрометировало свою весть.
Евсевий полагал, что завоевания Константина – кульминация священной истории{732}. Великую власть Иисуса{733} христианский император сделал политической реальностью. Евсевий закрыл глаза на то, что достигнуто это было с помощью римских легионов, в которых Иисус усматривал действие демонического начала. Тесный союз Церкви и империи, который начал складываться с 312 г., означал, что война неизбежно обрела сакральный характер (пусть даже в Византии никогда не называли ее «священной»){734}. Ни Иисус, ни первые христиане не додумались бы до такого парадокса, как «христианский император».
И вновь мы видим: традиция, которая противостояла государственной агрессии, не сохранила эту мощную этику, связав себя в итоге с владычеством аристократов. Христианская империя не могла не запятнать себя грабежом и насилием, которые, согласно Лактанцию, типичны для любого империализма. Как и в имперском зороастризме Дария, эсхатологическую мечту спроецировали на далеко не идеальную политическую систему. У Евсевия получалось, что Царство, которое Христос должен установить при своем втором пришествии, по сути уже установлено Константином! Евсевий учил византийских христиан, что христианские идеалы преобразят безжалостный милитаризм и системное насилие Римской империи. Однако Константин был солдатом и в своей новой вере толком не разбирался. Поэтому скорее уж христианство должно было обратиться к имперскому насилию.
Похоже, что Константин осознавал двусмысленность своего положения: неслучайно он ведь откладывал крещение до смертного одра{735}. В последний год жизни он планировал поход против Персии, но заболел. И тогда, пишет Евсевий, Константин «подумал, что пора уже очиститься ему от прежних прегрешений, ибо веровал, что все, в чем он согрешил, как смертный, будет снято с души его силой мистических молитв и спасительным словом крещения»{736}. Император сказал епископам: «Подчиню себя правилам жизни, сообразным с волей Божьей»{737}, то есть признал, что в предыдущие 25 лет не имел такой возможности.
Император обнаружил эти противоречия еще до своего прибытия на восток, когда разбирался с христианской ересью в Северной Африке{738}. Константин считал себя вправе вмешиваться в эти дела, ибо, как он сам однажды сказал: «Меня можно назвать поставленным от Бога епископом дел внешних»{739}. Ересь была не только догматическим, но и политическим вопросом. Ведь в Риме религия и власть тесно переплетались, а значит, отсутствие консенсуса в Церкви угрожало Pax Romana. В государственных вопросах ни один римский император не позволил бы подданным делать что вздумается. А когда Константин стал единоличным правителем западных провинций, его взялись донимать просьбами донатистские сепаратисты, и он забеспокоился, что такие споры и настроения «возбудят высшее божество не только против человечества», но и против него самого, а ведь ему «вверено управление всеми делами земными»{740}. Многие североафриканские христиане не признали Цецилиана, нового епископа Карфагенского, и организовали собственную церковь, где епископствовал Донат{741}. Поскольку указы Цецилиана признавались законными всеми другими африканскими церквями, донатисты разрушали церковное согласие, и Константин счел за лучшее вмешаться.
Император есть император. Первым его побуждением было покончить с диссидентством военными методами. Однако Константин велел лишь конфисковать собственность донатистов