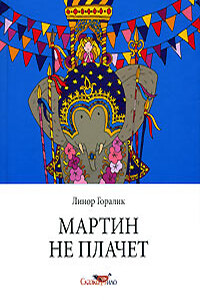Впрочем, там не могло быть двугривенных, то есть двадцатикопеечных монет, вдруг понимаю я, да и пятнадцатикопеечных — не больше одной, потому что двадцать и десять размениваются точно так же, как две по пятнадцать, и бедный Вася, не имея возможности точно определить набор исходных монет у Пети, провалился бы в психотический срыв, который проходил у него так: он начинал раскачиваться и поскуливать, а потом приходил в ярость, и ярость эта была направлена себя — один раз я видел Алешу Полушкина, воткнувшего себе в руку грифель, когда не сложилась какая-то задачка, — как выяснилось впоследствии, воспроизведённая в наших учебниках с опечаткой.
Что у Пети в ладонях? У Пети в ладонях должна была быть одна монета в пятнадцать копеек, потому что из гривенников и двугривенных не сложились бы рупь двадцать пять. Рупь двадцать пять минус пятнадцать дает нам рупь десять, сто десять копеек. Сто десять не может состоять из двугривенных, — а значит, это монетки по десять копеек, одиннадцать штук. «Это будет рубль десять, у Вас найдется гривенник?» — «Два пятачка, ничего?» — Вася сияет. Петя пытается понять, что было у него в голове, когда он связался с этим отморозком. Я проверяю всю работу еще и еще раз: задача про самолет, задача про два шарика, маленькая, но верткая задача про девочку, у которой день рождения в середине весны, — и про ее брата, у которого день рождения двадцать пятого декабря, задача про нестреляющий пистолет — я проверяю все по третьему разу, проверяю собственное имя, класс, номер школы, написанные вверху тетради, проверяю порядок листов и подчеркиваю красным слова «Задача», «Решение», «Ответ» — и все равно сдаю работу первым, меня выпускают, я наваливаюсь на подоконник в коридоре, я слишком взвинчен, чтобы чувствовать себя усталым, я хочу в туалет, но еще какое-то время стою и смотрю на полосатое небо, и вспоминаю, что кое-что забыл всё-таки: поставить дату. Я прихожу в ужас. Я не иду в туалет, а стою и жду, пока не появится кто-нибудь из учителей.
Постепенно выходят другие олимпиадники, кто-то в испарине, кто-то в слезах, кто-то ликует, предвкушая победу, а последней выходит Маша, и некоторое время мы стоим молча. Из моего сегодня я вижу эту картинку так: вот нынешний я стою у подоконника, и вот она, маленькая, со сбившимся набок хвостом, с портфелем, набитым специальными учебниками для спецкласса, с полными глазами слез ждёт, когда я обниму ее и прижму к себе, и скажу: «Маша, ну это же все выеденного яйца не стоит, я вообще против олимпиад, мне кажется, это совершенно лишнее. В науке не должно быть соревновательности, а то академическая среда будет устроена, как советские учреждения, а это, Маша, омерзительно». Но там, в мои и её одиннадцать лет, я понимаю, что она чудовищно провалилась, и мне передается ее стыд, льётся, переползает красными пятнами с ее щек на мои, она неловко скрестила руки на груди, губы вздрагивают, Маша поворачивается ко мне спиной и у нее из-под подола вдруг вываливается крошечная пуговица. Я рад завести разговор и до неловкого громко восклицаю: «Это откуда?» — но Маша выхватывает у меня пуговицу и бежит к туалету, и я вдруг понимаю, почему она ерзала и что отвлекало ее всю олимпиаду, и что она пыталась поймать у себя на спине сквозь кусачую коричневую шерсть форменного платья, — и уже мой собственный стыд заливает мне щеки, а потом Маша возвращается и мы не говорим об олимпиаде еще неделю, до следующего понедельника. Ничего, ни слова.
В понедельник нам читают список победителей, он начинается с моего имени. Это значит, что меня ждет областная олимпиада, а потом республиканская — всесоюзных для таких маленьких, как мы, не устраивают. Но на перемене мне и Полушкину, номеру два, почему-то не смекнувшему, как выяснилось, про одиннадцать по десять, велят остаться в классе, и полный высокий мужчина со странным женским лицом объясняет нам, что мы удостоены великой чести: нас берет к себе знаменитый интернат для одаренных детей. Считать атомы, грызть гранит науки, выше вздымать знамя нашей Родины. Полушкин дергает губой и сипло дышит, — все-таки яблоко от яблони, брат от брата, и это, конечно, не колония, но в той или иной мере. А меня заливает бешеной волной, у меня дрожит голос, когда я диктую домашний телефон и имена-отчества родителей, с которыми теперь «свяжутся и сообщат», и вылетаю в коридор, где Маша стоит у окна и наматывает резиночку с двумя шариками на палец, все туже и туже, пока палец не багровеет, и она разматывает ее со стоном, и я понимаю, что совершенно забыл про нее, что ей оставаться здесь, а мне отбывать в полное свершений будущее юного гения, — тут нужно остановиться.